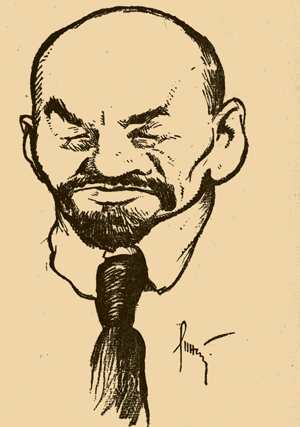Аркадий Тимофеевич Аверченко (1880–1925), которого называли когда-то «русским Марком Твеном», родился в Севастополе в семье разорившегося купца и дочери отставного солдата с Полтавщины.
С 15 лет служил конторщиком в Севастополе, Донбассе, Харькове, где в 1903 году в газете «Южный край» появляется его рассказ «Как мне пришлось застраховать жизнь».
После царского манифеста от 17 октября 1905 года начался, как тогда говорили, медовый месяц российской свободы слова. В тот период в стране выходило более 300 сатирических изданий: в Петербурге — 178, в Москве — 43, в провинции — 88. Из этих последних два — «Штык» и «Меч» — редактировал Аверченко, совершенно забросивший службу. В них он под разными псевдонимами вел практически все разделы, пока его не уволили со словами: «Вы хороший человек, но ни к черту не годитесь». С этим напутствием Аверченко уезжает из Харькова в Санкт-Петербург, не уплатив, по собственному признанию, штрафа в 500 рублей за крамольный, как теперь говорят, контент журнала «Меч» за нумером 9.
Ему 27, он бродит по столичным улицам в раздумьях, куда бы пристроить юмористический рассказ. И ноги сами приводят его в редакцию журнала «Стрекоза», где он и остается. Но «Стрекоза», которую более 30 лет назад запустил издатель Г. К. Корнфельд, по совместительству фабрикант каучуковых печатей и мыловар, к тому времени вошла в штопор. Сын Корнфельда, Михаил Германович, вложил капитал отца в новое издание, получившее название «Сатирикон» (с 1913 года — «Новый Сатирикон»). Старшему из сотрудников, карикатуристу Алексею Радакову, было 30. Младшему, художнику Александру Яковлеву, не исполнилось и семнадцати. Да и самому издателю стукнуло только 24… Подписчики «Стрекозы» и глазом моргнуть не успели, как стали получать новый журнал. А вчерашний провинциал Аверченко стал его редактором.
За пять лет редакция выпустила около 300 номеров журнала, два миллиона юмористических книг. Сам Аверченко пишет в каждый номер по рассказу, фельетону и к тому же ведет «Почтовый ящик», под которым ставит подпись Ave. В этот период в России выходит 40 книг Аверченко. Его популярности нисколько не вредят многочисленные попытки привлечь журналиста к суду, как бы сейчас сказали, «за экстремизм».
Но это были цветочки. Ягодки созрели в 1918 году, когда большевики не только закрыли «Сатирикон», но и конфисковали принадлежавшие редакции запасы бумаги, банковские счета и помещение. В 1920 году, за несколько дней до того, как красные взяли Крым, Аверченко на одном из последних пароходов отбыл в Константинополь. Потом — София, Белград, наконец, Прага, где писатель и умер. В 1921 году в Париже был опубликован сборник памфлетов Аверченко «Дюжина ножей в спину революции». Стервятники из Пролеткульта начали было сужать круги, но в «Известиях» неожиданно вышла статья В. И. Ленина «Талантливая книжка». В лучших традициях марксистско-собственной диалектики вождь революции, с одной стороны, назвал Аверченко «озлобленным до умопомрачения белогвардейцем», а с другой — дал его книге весьма лестную оценку (что в дальнейшем не помешало верным ленинцам упрятать эту «талантливую книжку», а вместе с ней и все остальные произведения Аверченко в «спецхран» на долгие десятилетия). Фельетонист откликнулся открытым письмом.
ПРИЯТЕЛЬСКОЕ ПИСЬМО ЛЕНИНУ ОТ АРКАДИЯ АВЕРЧЕНКО
,
,
Здравствуй, голубчик! Ну, как поживаешь? Всё ли у тебя в полном здоровьи?
Кстати, ты, захлопотавшись около государственных дел, вероятно, забыл меня?..
Я тот самый твой коллега по журналистике Аверченко, который, если ты помнишь, топтался внизу, около дома Кшесинской, в то время, как ты стоял на балконе и кричал во все горло:
— Надо додушить буржуазию! Грабь награбленное!
Я тот самый Аверченко, на которого, помнишь, жаловался Луначарский, что я, дескать, в своем «Сатириконе» издеваюсь и смеюсь над вами.
Ты тогда же приказал Урицкому закрыть навсегда мой журнал, а меня доставить на Гороховую.
Прости, голубчик, что я за два дня до этой предполагаемой доставки на Гороховую — уехал из Петербурга, даже не простившись с тобой.
Ты тогда же отдал приказ задержать меня на ст. Зерново, но я совсем забыл тебе сказать перед отъездом, что поеду через Унечу.
Не ожидал ты этого?
Кстати, спасибо тебе. На Унече твои коммунисты приняли меня замечательно. Правда, комендант Унечи — знаменитая курсистка товарищ Хайкина сначала хотела меня расстрелять.
— За что? — спросил я.
— За то, что вы в своих фельетонах так ругали большевиков.
Я ударил себя в грудь и вскричал обиженно:
— А вы читали мои самые последние фельетоны?
— Нет, не читала.
— Вот то-то и оно! Так нечего и говорить!
А что «нечего и говорить», я, признаться, и сам не знаю, потому что в последних фельетонах — ты прости, голубчик, за резкость — просто писал, что большевики — жулики, убийцы и маровихеры…
Очевидно, тов. Хайкина не поняла меня, а я ее не разубеждал.
Ну вот, братец ты мой — так я и жил.
Выезжая из Унечи, я потребовал себе конвой, потому что надо было переезжать нейтральную зону, но это была самая странная нейтральная зона, которую мне только приходилось видеть в жизни. Потому что по одну сторону нейтральной зоны грабили только большевики, по другую только немцы, а в нейтральной зоне грабили и большевики, и немцы, и украинцы, и все вообще, кому не лень.
Бог ее знает, почему она называлась нейтральной, эта зона.
Большое тебе спасибо, голубчик Володя, за конвой — если эту твою Хайкину еще не убили, награди ее орденом Красного Знамени за мой счет…
Много, много, дружище Вольдемар, за эти два года воды утекло… Я на тебя не сержусь, но ты гонял меня по всей России, как соленого зайца: из Киева в Харьков, из Харькова — в Ростов, потом Екатеринодар, Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, опять… Севастополь.
Это письмо я пишу тебе из Константинополя, куда прибыл по своим личным делам.
Впрочем, что же это я о себе, да о себе… Поговорим и о тебе…
Ты за это время сделался большим человеком… Эка, куда хватил: неограниченный властитель всея России… Даже отсюда вижу твои плутоватые глазенки, даже отсюда слышу твое возражение:
— Не я властитель, а ЦИК.
Ну, это, Володя, даже не по-приятельски. Брось ломаться — я ведь знаю, что тебе стоит только цикнуть и весь твой ЦИК полезет под стол и сделает все, что ты хочешь.
А ловко ты, шельмец, устроился — уверяю тебя, что даже при царе государственная дума была в тысячу раз самостоятельнее и независимее. Согнул ты «рабоче-крестьянскую», можно сказать, в бараний рог.
Как настроение?
Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать, что за последнее время совершенно перестал понимать тебя.
На кой черт тебе вся эта музыка? В то время, когда ты кричал до хрипоты с балкона — тебе, отчасти, и кушать хотелось, отчасти и мир, по молодости лет, собирался перестроить.
А теперь? Наелся ты досыта, а мира все равно не перестроил.
Доходят до меня слухи, что живется у вас там в России, перестроенной по твоему плану — препротивно.
Никто у тебя не работает, все голодают, мрут, а ты, Володя, слышал я, так запутался, что у тебя и частная собственность начинает всплывать, и свободная торговля, и концессии.
Стоит огород городить, действительно!
Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты просто скучаешь. Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать, но власть хороша, когда кругом довольство, сияющие рожи и этакие хорошенькие бабеночки, вроде мадам Монтеспан при Людовике.
А какой ты к черту Людовик, прости за откровенность!
Ленин. Журнал «Бич». Третий номер, 1920 год. Линский Михаил Семенович,
,
Окружил себя всякой дрянью, вроде башкир, китайцев — и нос боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть. Даже Николай II частенько раньше показывался перед народом и ему кричали «ура», а тебе что кричат?
— Жулики вы, — кричат тебе и Троцкому. — Чтоб вы подохли, коммунисты.
Ну, чего хорошего?
Я еще понимаю, если бы рожден был королем — ну, тогда ничего не поделаешь: профессия обязывает. Тогда сиди на башне — и сочиняй законы для подданных.
А ведь ты — я знаю тебя по Швейцарии — ты без кафе, без «бока», без табачного дыма, плавающего под потолком — жить не мог.
Небось, хочется иногда снова посидеть в биргалле, поорать о политике, затянуться хорошим киастером — да где уж там!
И из Кремля нельзя выйти, да и пивные ты все, неведомо на кой дьявол, позакрывал декретом № 215523.
Неуютно ты, брат, живешь, по-собачьему. Русский ты столбовой дворянин, а с башкирами все якшаешься, с китайцами. И друга себе нашел — Троцкого — совсем он тебе не пара. Я, конечно, Володя, не хочу сплетничать, но знаю, что он тебя подбивает на всякие глупости, а ты слушаешь.
Если хочешь иметь мой дружеский совет — выгони Троцкого, распусти этот идиотский ЦИК и издай свой последний декрет к русскому народу, что вот, дескать, ты ошибся, за что и приносишь извинения, что ты думал насадить социализм и коммунизм, но что это для отсталой России «не по носу табак», так что ты приказываешь народу вернуться к старому, буржуазно-капиталистическому строю жизни, а сам уезжаешь отдыхать на курорт.
Просто и мило!
Ей богу, плюнь ты на это дело, ведь сам видишь, что получилось: дрянь, грязь и безобразие.
Не нужно ли деньжат? Лир пять, десять могу сколотить, вышлю.
Хочешь — приезжай ко мне, у меня отдохнешь, подлечишься, а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину придумаем — поумней твоего марксизма.
Ну, прощай, брат, кланяйся там!
Поцелуй Троцкого, если не противно.
Где летом — на даче? Неужели в Кремле?
С коммунистическим приветом,
Аркадий Аверченко.
P. S. Если вздумаешь черкнуть два слова, пиши: Париж, Елисейский дворец, Мильерану для Аверченко.
(Журнал «Зарницы» № 15, 1921, Константинополь)
Итак, вот лишний повод убедиться, что фельетон может принимать самые разнообразные формы. В данном случае это открытое письмо или, на нынешнем криминально-номенклатурном новоязе, «ответка». Ни в коем разе не пытаясь просунуть свое нефотогеничное скоромное рыло в калашный ряд классиков жанра, припоминаю, как в одной газете когда-то опубликовал несколько фельетонов в виде доносов (например, Грызлову на Путина и т. д.).
Данный «кейс»… кстати, терпеть не могу этого слова! «Кейсом по фейсу, а фейсом об тейбл». Употреблю-ка я лучше исконно русское слово «казус». Так вот, этот казус, конечно, особый: в описываемых событиях речь шла о прямой угрозе жизни автора. Но высший уровень эмоциональной вовлеченности отличает и другие произведения Аверченко этой поры. Его герои — дворяне, купцы, чиновники, военные, интеллигенты, рабочие задают большевикам один и тот же вопрос: «За что ж вы так Россию-то?» Вывод: хороший фельетон нельзя написать, сохраняя олимпийское спокойствие. Фельетонист всегда пристрастен, даже если его отношение к сторонам описываемого конфликта определяется классической формулой «Чума на оба ваши дома».
Советские критики обвиняли Аверченко в том, что он, дескать, не разглядел «величайшей революции» и обиделся, что ему не дали доесть у трактирной стойки соус кумберленд. Да все он прекрасно разглядел и предсказал — и тоталитаризм, и репрессии, и продуктовые нехватки, и схватки кремлевских бульдогов под ковром… Впрочем, дара предвидения от рядового фельетониста требовать излишне. Это удел таланта высшей пробы. Хотя, если вдруг с перепугу получится, пойдет в зачет.
,