С Андреем Вагановым мы шесть лет работали в «Независимой газете». Поражала его фундаментальность, феерическое трудолюбие, даже некий стоицизм. И – верность журналистике. Менялись редакторы, менялись времена. А Андрей Ваганов вот уже почти три десятилетия неизменно руководит отделом, который является одной из «визитных карточек» газеты — «НГ-Наука».
— Когда и как возникла «НГ-Наука»?
— Я в газете с 1993 года. Периодически выпускал тематическую полосу о науке, а в 1996 году произошла перестройка формата газеты, появились приложения. Виталий Третьяков предложил мне сделать свое. Надо сказать, все главные редакторы, при которых мне довелось работать, меня поддерживали: и Виталий Третьяков, и Татьяна Кошкарева, и нынешний главный редактор Константин Ремчуков. У «НГ-Наука» были разные периоды: она иногда толще становилась, иногда тоньше, периодичность менялась, но последние полтора десятка лет выходит регулярно два раза в месяц объемом в 8 полос.
— Мы застали удивительное время в истории профессии. Помню, Третьяков, когда взял меня на работу, потряс тем, что не практиковал предварительной цензуры: печатай что хочешь, зато на следующий день на летучке может быть разнос. И летучки шли по часу и больше, с живым обсуждением материалов, подчас с яростными спорами – это в ежедневной газете! А наши приложения и тематические полосы – это были своего рода мини-издания под общей крышей «Независимой». «Экслибрис», «Религии», «Дипкурьер», «СНГ»…
— Приложение «НГ-Религии» и сейчас выходит тоже два раза в месяц, и там совершенно замечательный ответственный редактор – Андрей Мельников. Известный журналист, религиовед, кандидат наук. И «Эслибрис» выходит регулярно.
— Установка на высокий профессиональный и экспертный уровень была довольно необычна для того времени, когда все спешили отказаться от утяжеляющих издание служб, вроде бюро проверки, даже корректуры… Я пришла газету в конце 1995 года из «Огонька», который в ту пору как раз решил «пойти за читателем». За образец тогдашнее руководство по предложению Глеба Павловского взяло немецкий журнал «Фокус» — короткие материалы, много иллюстраций, разговорный стиль… Тогда это был общий тренд. В «Независимой» всегда было как-то иначе. Скажи, как ты вообще оцениваешь тот период нашего существования?
— Оглядываясь назад, в конец 1990-х, я считаю, это был расцвет журналистики постсоветской России. Многие из тех, кто тогда начинал, уже руководят крупными холдингами, стали известными журналистами и ньюсмейкерами, кем угодно. Среди них и пропагандисты, и аналитики. Ты правильно отметила удивительное свойство Третьякова: он абсолютно доверял журналистам. Люди это чувствовали и старались его не подводить. Надо сказать, я сам не журналист по образованию, я инженер-теплофизик, учился в Московском энергетическом институте. Но в 1990 году закончил школу научной журналистики при журнале «Химия и жизнь». Ее руководители сделали главное – погрузили в среду. Приглашали на наши вечерние чаепития ученых, я застал живого Петрянова-Соколова, знаменитого академика, который, между прочим, беруши придумал.
— А когда ты вообще заинтересовался наукой?
— Когда прочитал «Этюды об ученых» Ярослава Голованова. Я от нее «заболел» наукой. Этот момент четко помню. Я лежал с гриппом, и мама принесла книжку. Я её три раза подряд прочитал.
Как сделать «хохлому»
— Как формировались первые номера приложения? Как выстраивалась концепция?
— Первые номера более-менее легко даются, потом начинаешь думать, как формировать портфель, структуру, как сделать, чтобы это было красиво. Все-таки газета! Такая «хохлома», которую хочется подержать в руках. Мне нравилось и до сих пор нравится планирование номеров. Был период, когда приложение мы делали вдвоем с писателем-фантастом Володей Покровским, я был ответственным редактором, а он обозревателем. Но вот уже много лет я делаю все один. Правда, за это время у меня накопился очень серьезный банк авторов.
— Ты написал книгу о популяризации науки и сборник интервью «Наука –это то, чего не может быть». В середине 1990-х у тебя уже была идея популяризации научных знаний?
— Тогда я теорией популяризации еще не увлекался. Брал то, что мне самому интересно, текст, который «зацепил». Было много интервью с учеными, я всегда приветствую этот жанр. Одна из первых моих бесед — разговор с замечательным космологом, академиком Валерием Рубаковым о том, как возникла Вселенная. Помню, после публикации наш тончайший литературный редактор Алла Хемлин подошла и говорит: «Слушай, Андрей, вот прочитала текст с твоим академиком, ничего не поняла, но оторваться не могла».

Я до сих пор расцениваю эти слова как высшую похвалу. В этом парадоксальный смысл длинных текстов.
«НГ», наверное, была одной из немногих газет, где пубиковались такие лонгриды. Публиковались тексты на две полосы, а то и больше, да еще и с продолжением в следующем номере. Сейчас главный акцент в газете — это оперативная аналитика, потому что за новостной повесткой очень сложно угнаться.
— На мой взгляд, главный залог успеха «НГ-Науки» в том, что все-таки ты разбираешься в физике, вообще в точных науках, понимаешь, о чём это. И ты, конечно, приоритет давал физикам, математикам, тем людям, которые изучают космос, это всегда привлекало, как и во времена Голованова в «Комсомолке».
— Я всё время улыбаюсь, когда вспоминаю, что я инженер-теплофизик. Конечно, от теплофизика у меня осталось очень мало. Кстати, я недавно перелистывал подшивку первых выпусков, там не только физика, химия, математика, там было очень много философов, много текстов о научной политике, науковедении.
— Ты чаще заказываешь материалы авторам или они в основном приходят сами по себе?
— Многие тексты по-прежнему приходят самотеком. Часто с людьми знакомился после простой переписки, с некоторыми из них потом дружба началась настоящая. Но для меня главный фактор оценки – чтобы самому было интересно.
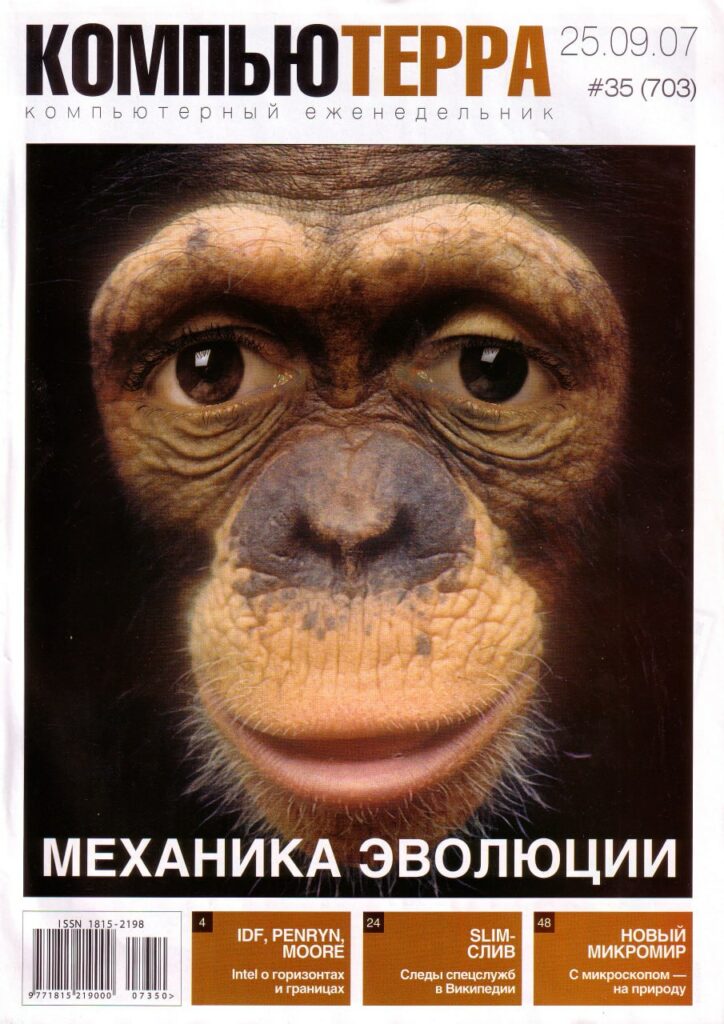
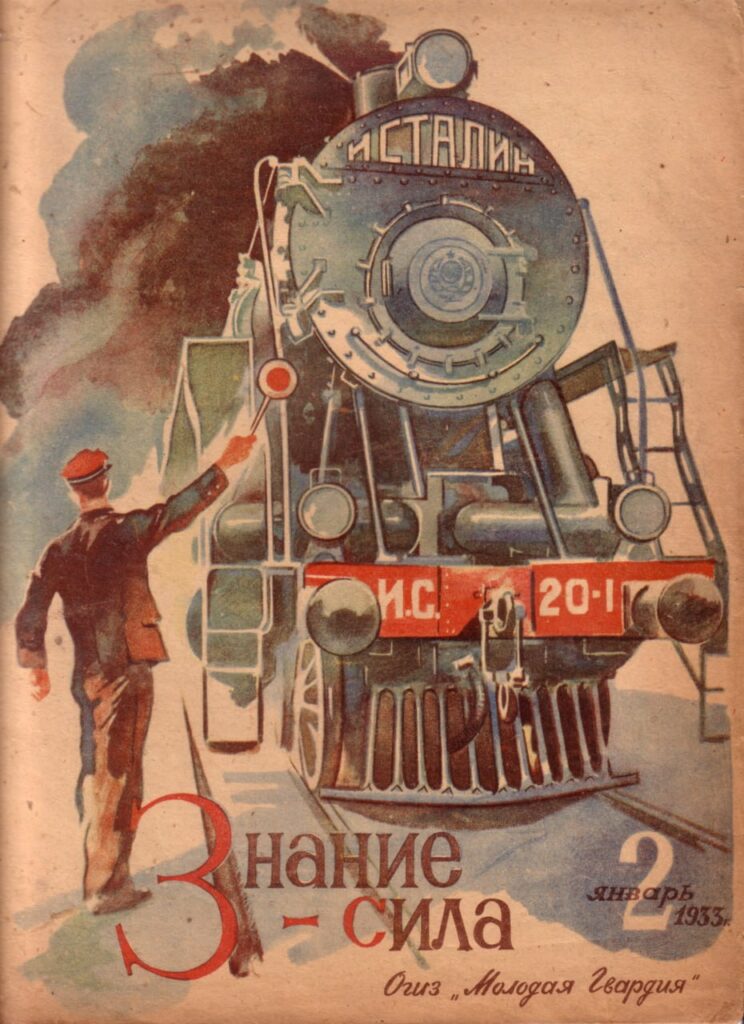
— Тексты ученых – это отдельная беда! С юности помню, какая мука их править…
— Иногда тексты, особенно от узких специалистов, очень сухие. В каждом предложении слово «являетсям. Некоторые я отвергаю сразу: «Извините, не наш формат». Но в некоторых я чувствую интересную фактуру, и если удается, дорабатываем.
Давал советы президенту Академии наук
— 28 лет – очень солидный срок. Изменилось ли что-то в формате, в твоем видении приложения, его места в газете?
— Да, газета меняется, и я изменился. Я стал более осторожен в оценках. По молодости я мог себя не сдерживать, давал советы, например, президенту Академии наук — через газету, конечно.
— Это было как-то нормально тогда, в 90-е годы.
— Сейчас я немножко больше погрузился в академическую среду и понимаю, что не все так просто, как видится с журналистской колокольни. Это очень специфическая среда. Так же, как и театральная, спортивная. Поэтому я сейчас стараюсь давать оперативную аналитику без оценок. Но она сама подводит читателя к той или оценке.
— Еще об авторах: большинство из них – ученые или журналисты, которые пишут об исследованиях и проблемах?
— Когда все начиналось, было пополам. Сейчас, я думаю, процентов 80 — это авторские материалы. Я же на себя беру иногда смелость писать оперативную аналитику, ученых бывает трудно к этому подтолкнуть.
— У тебя все же есть какой-то особый талант побудить их писать о том, что нужно газете.
— Приведу пример. Лет 10-15 назад вышла книжка академика Эрика Галимова, в которой говорилось, в частности, о биохимической проблеме возникновения жизни во Вселенной, не только на Земле. Книжка очень интересная, я её прочитал запоем. А Эрик Михайлович тогда возглавлял Институт имени Вернадского, у них там лучшая коллекция упавших на Землю метеоритов. Я ему позвонил, говорю: «Эрик Михайлович, хотел бы с вами интервью сделать». Он мне говорит: «Нет, для газеты не буду. Сначала нужны в научных журналах статьи». Ну, в общем, как-то все-таки его уговорил встретиться, он пригласил к себе в институт. Я пришел с его книжкой, а она у меня вся была в закладочках, они торчали в разные стороны. Сели друг напротив друга, я достаю эту книжку, он только взглянул, чувствую, — всё, он мой. Подобрел сразу, и мы с ним потом ещё несколько раз встречались.
— Чувствуешь себя одним из лидеров в популяризации науки в СМИ? На кого еще ориентируешься?
— Мы несколько лет общались с замечательным журналистом Карлом Левитиным, у меня есть книги с его автографами. Но в последние годы все реже читаю научно-популярные книги. Ну, некоторые знаковые, маяковые такие книжки, конечно, покупаю. Например, «Эгоистичный ген» Ричарда Докинса или Хокинга. А вот Асю Казанцеву (признана иноагентом) я не могу читать и не читаю.
Иногда я лучше прочитаю — продерусь, большую часть не пойму, — журнал «Успехи физических наук» , чем какой-нибудь «научпоп».
— Дилетант не всегда разберется, где популяризация знания, а где просто реклама или вообще полная ерунда.
— По-моему, в Канаде есть объединение журналистов, пишущих о науке, и у них в уставе записано, что членам ассоциации запрещено употреблять в своих текстах слово «сенсация».
— У нас тоже была, кажется, такая группа журналистов.
— Да, ее возглавляла Виола Егикова. Кстати, благодаря ей в 2018 году я принял участие в конкурсе Британской ассоциации научных журналистов, я один текст туда послал — и победил, представляешь? Получил диплом, номинация «Лучший научный журналист Восточной Европы».
Первый научный шпион Афанасий
— Чем ты гордишься больше всего как редактор «НГ-Наука»?
— В 2023 году написал большую статью, посвящённую технологическому суверенитету России, начиная с путешествия Афанасия Никитина. Это был первый научный шпион, который был послан в Индию, чтобы выведать секрет дамасской стали. Его спонсировали наши купцы, он же не просто так туда рванул. И вот я попытался разобраться.
Был по сегодняшним меркам заметный отклик: «Ой, спасибо большое, мы ждали такого лонгрида, предлагаем еще глубже погрузиться во времена Ивана III». Тогда, оказывается, в первый раз Россия под санкции попала, Ганзейского союза.
О прикладном значении науки многие думали ещё в начале ХХ века. Тот же Вернадский предлагал Академию наук разделить на две части: одну называть Академией имени Ломоносова, а другую – Академией имени Менделеева. Имени Ломоносова – это о теории, а имени Менделеева – это прикладники, всякие технические науки. То есть о чём речь, что идёт впереди? Технологии толкают науку или наука толкает технологию? Был замечательный советский философ в 20-30 годы, Борис Михайлович Гессен, расстрелянный в 1937 году. Он связал появление открытия законов всемирного тяготения Ньютона с задачами абсолютно прикладными.
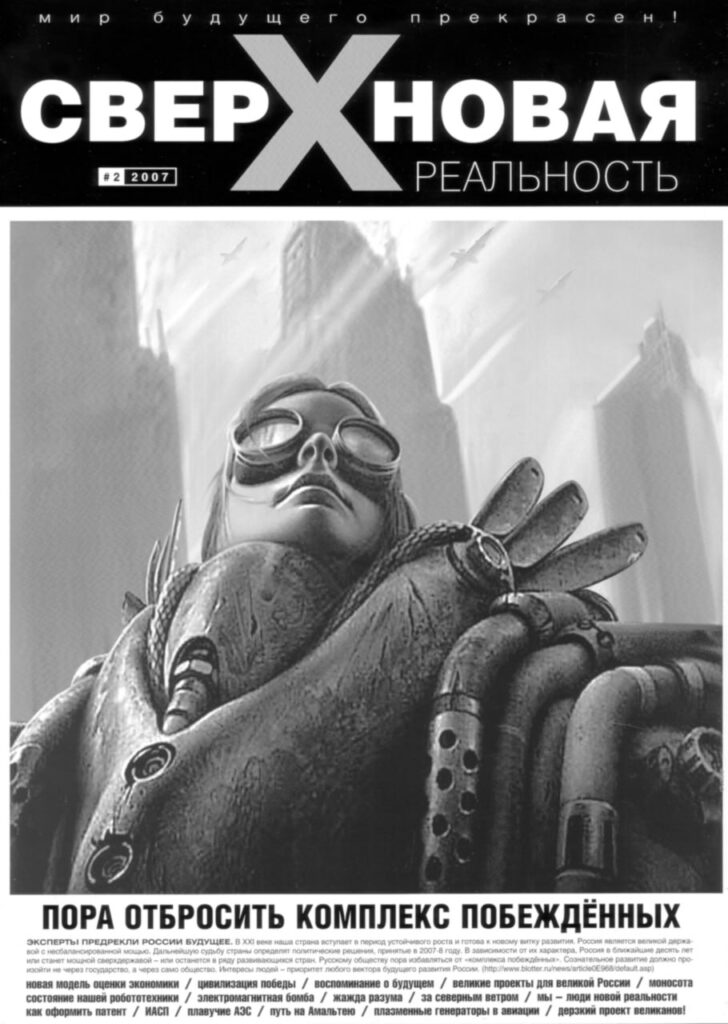
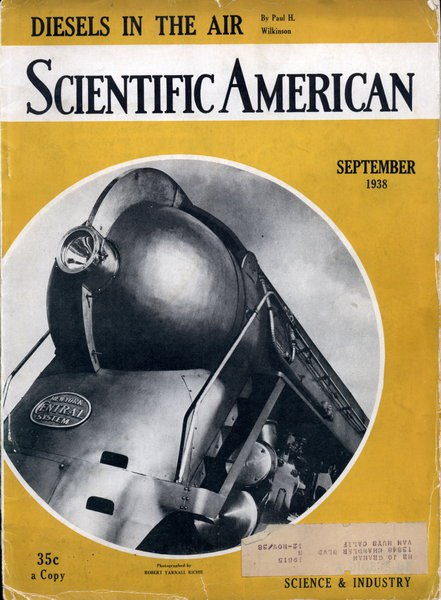
— То есть яблоко Ньютону на голову упало, потому что в Англии это надо было капитализм развивать?
— Да, мореплавание, торговля, необходимость определения долготы, вот это всё подтолкнуло.
— Но сейчас мы видим, что наука требует денег, а деньги дают на развитие того, что имеет отношение прежде всего к утилитарным темам, к оборонным технологиям и т д.
— Мое скромное мнение: уровень развития государств, экономический, идеологический, определяется тем, что они могут давать деньги на черт знает что. Посмотрите, какие исследования финансируются в той же Америке, в том числе в гуманитарных науках, некоторые выглядят просто фантазией свалившихся с Луны. И все равно их финансируют и не ждут мгновенного эффекта.
Алиса на плоской Земле
— В твоей книге есть главы о том, что существует нечто пока нами не познанное. Ещё одна совершенно меня поразившая вещь: неслучившееся влияет на последующую историю.
— Приведу аналогию из физики. Это как в полупроводнике, есть заряд отрицательный, а есть положительный. Так положительный заряд — это дырка, пустота, это, можно сказать, неслучившееся.
— Читала недавно, что где-то создается институт гуманитарного восприятия науки.
— В одной из своих книжек я пишу, что в мире стали серьезно к этому относиться, думать о том, как вообще науку внедрять. Коммуникации науки и общества – это отдельное направление.
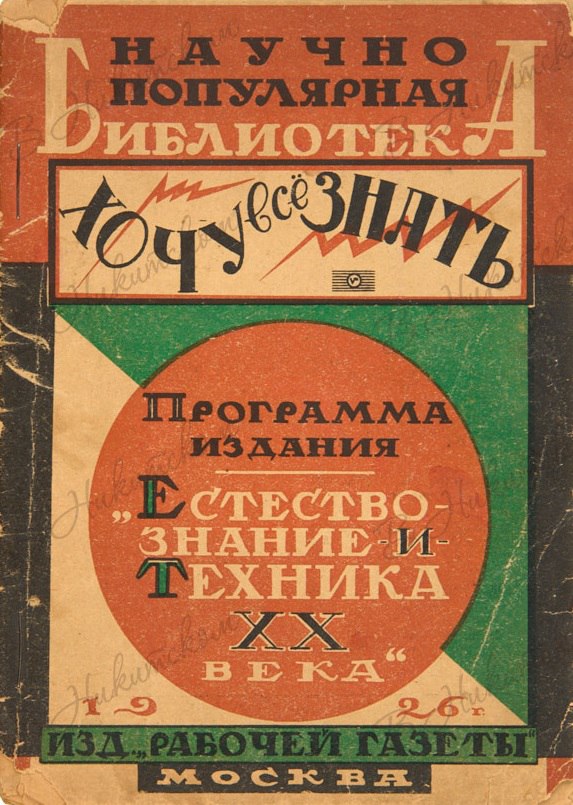
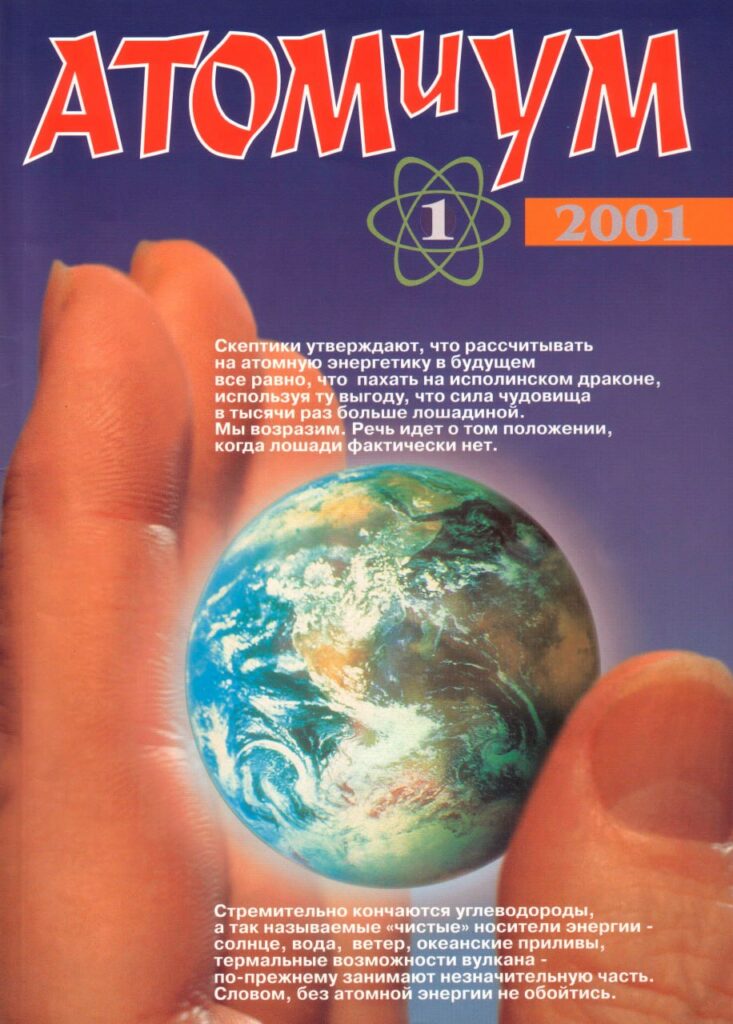
— При этом многие люди до сих пор уверены, что Земля плоская.
— В этом и парадокс: уровень мракобесия примерно одинаковый во всём развитом мире. 70% американцев не понимают научных статей, опубликованных в The New York Times.
— А у нас?
— Примерно столько же, даже среди студентов.
— Что меняется в этом разговоре о науке?
— Я как раз упертый технократ, позитивист даже. Меня эта тема сильно волнует – влияние технологических новшеств на социум, на поведение людей, на политику. Мир становится сложнее. Но искусственный интеллект — это всё равно инструмент, с которым ты даже поговорить можешь осознанно. Я со своей Яндекс-колонкой тоже разговариваю.
— «Алиса, привет! Расскажи мне анекдот».
— Да-да. «Ой, как мне приятно», – отвечает Алиса, и так далее. Но, может быть, это такой шовинизм гомосапиенса во мне говорит, но человек останется человеком, если сам себя, конечно, не изуродует окончательно.
— Раньше ученые были как божества. А сейчас — служащие, обслуживающий персонал.
— Может быть, и слава богу, но тут нужен нормальный государственный менеджмент всей научной сферы, не такой, как сейчас.
— Что можно сказать сегодня о научной журналистике в целом?
— Я слежу не столько за журналистами, сколько за изданиями. К моему стыду, я в этом смысле такой аутичный человек, я мало общаюсь с коллегами. Для меня маяком остаётся американский журнал Wired. Он возник в 70-е годы, это такой пост-панк с философией, всякие биологические штуки, в общем, это такая бурлящая смесь, при этом она концептуально сделана. Там даже бумага интересная, приятная, не глянец, но задевает тактильность. У нас такого издания нет сейчас, нет перспективы создания, никто денег не даст. Можно иметь замечательный сайт, блог, телеграм-канал, их много, я пользуюсь этим.
— Какие качества сейчас нужны научному журналисту?
— Все-таки знание английского языка более-менее, хотя бы чтобы читать, понимать, о чём речь. Несомненно, более-менее продвинутое владение компьютером. А психологически? Вот я сошлюсь как раз на Карла Левитина. Он научного журналиста в параллель ставит с разведчиком, который занимается научно-технической разведкой, у него чуть ли не табличка есть, где он сводит эти качества. То есть это не просто увидел – написал, зафиксируй и иди дальше. Это все-таки склонность к аналитике, способность оценивать большие форматы и относительно большие базы данных. Иногда в башке что-то соединяется. Я пишу про Ньютона и вспоминаю, что у Набокова в «Аде» есть про Ньютона, и это важно для меня, это рождает лучшее понимание. И такое вот пожелание, или требование, — читать побольше книг, именно бумажных книг, делать выписки, выдирать картинки, запомнившиеся тебе. Не знаю, конечно, сожет быть, молодые журналисты покрутят пальцем у виска.
— У тебя есть ученики?
— Да нет, пожалуй, я для этого не созрел. Хотя был период, когда я некоторое время семинар вел по научной журналистике в Московском международном университете. Юрий Борисович Соломонов, покойный уже, к сожалению, меня притянул туда. Эрудит, вел у нас в газете приложение «НГ-Сценарии». Могу привести пример из своей преподавательской практики. Я сначала пытался бороться с тем, что рефераты скачивают из интернета, но потом понял, это дело ненужное. Говорю: «Сдаете рефераты — вы должны за каждое слово отвечать, скачали вы или сами написали». И вот на экзамене одна девушка приносит реферат про развитие нанотехнологий. Спрашиваю: «Что такое нанометр?». Она мне начинает рассказывать, что это прибор для измерения мелких масштабов. А то, что это 10 в минус 9-й степени метра, она и не догадывалась. Но я двойки не ставил, только тройки.
— Какова должна быть сумма представлений современного человека о науке?
— Мне кажется, в наше с тобой время было проще, достаточно было нормального десятилетнего образования. В любом случае это в школе должно закладываться. Повторяю, я позитивист, рационалист, и я во всем пытаюсь найти естественное объяснение. Есть хорошая книжка о современной науке американца Джона Хоргана — «Конец науки», есть у нас в русском переводе. Он сам физик, был главным редактором Scientific America. Он взял интервью у великих философов и физиков начала ХХ века, еще Карла Поппера живым застал. Рекомендую, она очень глубокая, очень интересная.
Вместе с Андреем Вагановым мы открыли второй сезон нашего подкаста «Буря в чернильнице». Послушать его можно на нашем сайте!

