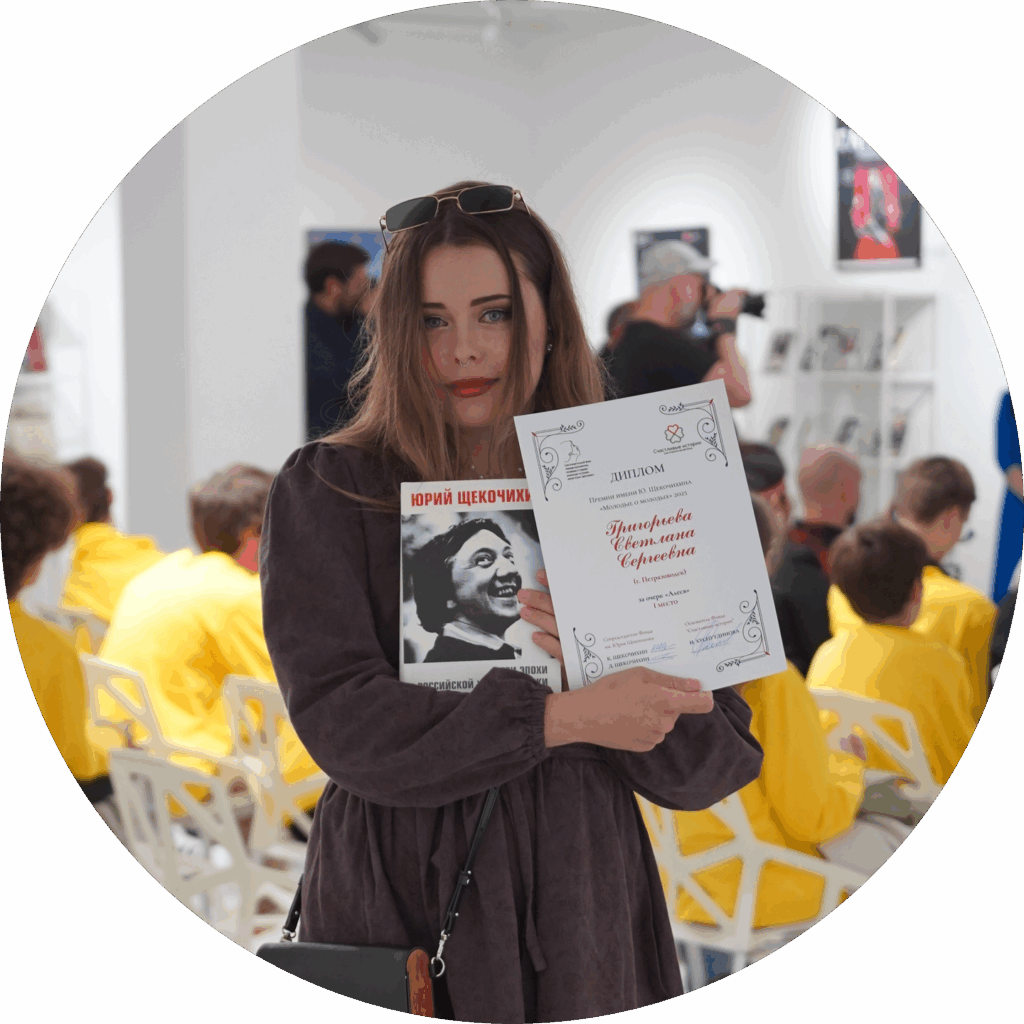
Светлана Григорьева, «Алеся»
Первое отчетливое воспоминание, связанное с моей младшей сестрой, идёт не из глубин детства, я толком не помню её маленькой, старалась не замечать. Первое отчётливое воспоминание, когда Алеся украла на даче в огороде у соседей одну-единственную клубнику и откусила вместо того, чтобы съесть целиком и без того маленькую ягоду. Вторую половину ягодки она протянула мне. Я тогда почувствовала неловкость, граничащую с брезгливостью, но именно этот момент стал началом нашей близости. Из-за моего инфантилизма во внешности мы даже обменивались одеждой: она могла пойти в школу в моих шортах с детскими принтами, а я гуляла со своим с парнем в её причудливой розовой панаме. Вечерами мы с Алесей играли в приставку, пекли сырную пиццу и залипали на аниме, как будто отвоёвывали у времени наше детство.
Когда пришло время уезжать учиться (я поступила в университет), Алеся постоянно плакала и приходила обнимать меня перед сном, а маме свои истерики объясняла так: «Часть меня уезжает, вы отрываете мою душу». Сейчас эти слова звучат по-другому, будто девочка в тот момент и правда осталась без души. Тогда я не придала этому значения, и наша связь начала рваться: я утонула в учёбе и не испытывала потребности возвращаться домой на каникулы — у меня появилось увлечение.
В университетские годы я подсела на путешествия и походы со своей лучшей подругой. Когда я заметила, что с сестрой мы не общались уже больше четырёх месяцев, испугалась, решила наверстать упущенное и позвала её с собой в палаточный поход в Кандалакшу. Сестре до городка было ехать поездом недолго из Мурманска. Первое «взрослое» путешествие – четыре часа ехать в поезде одной. Алеся страшно переволновалась и начала заболевать на нервной почве, иммунитет упал. Как выяснилось позже, уже в поезде она была с высокой температурой. Моей ошибкой было то, что я не заметила признаков болезни: с детства она часто краснела и нервничала, поэтому её состояние казалось мне привычным, а не тревожным симптомом и признаком ОРВИ.
Поход был суточный, и мы не снимали жилья в северном городе, с корабля на бал: сразу отправились к точке, где устроили первый привал. Алеся много молчала. Я не давила, думала, что она просто стесняется моей компании, и ждала, когда ей самой захочется раскрыться. Мне казалось, что она замкнулась из-за глупых вопросов моих друзей: нравится ли ей кто-то, не обижают ли в школе — всё то, что принято спрашивать у 12-летних девочек. Через шесть часов пути мы были на месте, но не успели насладиться видом сопок… я закричала: сестра лежала без сознания. Её лицо горело, под носом были корки, такие бывают, когда человек постоянно сморкается, а в руке она сжимала аэрозоль от боли в горле. Я запомнила все эти мелочи, а вот всё остальное будто в тумане. Только эта яркая вспышка. Она быстро очнулась, а я понесла её на спине вниз, туда, где нас должна была забрать машина. Помню, как она плакала, извинялась, просила не увозить её, убеждала и обманывала, что не болеет. Я молчала, была зла, на грани отчаяния, испугана, внутри всё сжималось, мне казалось, что Алеся может умереть. Я то плакала, то злилась, сглатывала слёзы и ненавидела себя за то, что не распознала её состояние.
Эта ситуация травмировала меня, и я окончательно отдалилась от сестры. Мне не хотелось больше заботиться о ней даже несколько дней — страх и ответственность стали меня пугать. Я боялась снова пережить подобное. Родители тоже перестали доверять и больше не отпускали Алесю со мной. Мама после того случая не разговаривала со мной полгода. Если бы не папа, который всегда был ко мне теплее остальных, я бы просто себя «сгрызла». Отец поддержал меня, объяснил, что причина произошедшего не моё наплевательское отношение на сестру, а стечение дурных обстоятельств. Когда я вспоминаю эту историю, кажется, будто всё это случилось не со мной, а кто-то рассказал мне об этом. Внутри — пустота. Пыталась забыть эту боль.
После окончания учёбы я вернулась в отчий дом. Всё изменилось: мама с папой сблизились, стали чаще бывать на даче, встречаться с друзьями, путешествовать. Появилось ощущение, что они, наконец, начинают жить своей жизнью, я ведь в какой-то степени «украла» их молодость. Хоть и была долгожданным ребёнком, но очень «ранним»: им было всего по 19 лет. Алеся была счастлива видеть меня, полностью раскрылась, рассказывала всё подряд, что надо и не надо. Я никогда не лезла с вопросами, но поток информации из неё лился, как бурная река. Оказалось, что моя 15-летняя сестра курит какие-то дуделки (электронные сигареты), пьёт пиво втихаря от родителей и дружит с малолетними наркоманами.
Чтобы держать руку на пульсе, я не осуждала её. Но и ненавязчивые наставления она игнорировала, а позже стала более сдержанна в рассказах. Когда я попыталась забить тревогу, родители, живущие свою лучшую жизнь, отнеслись ко мне резко: «Вспомни себя», «С такими оценками пусть хоть водку пьёт». Мне не поверили, но и сестре не сказали, что я её «сдала». Они уже устали беспокоиться, научились «закрывать глаза», чего не умели делать со мной.
После того самого похода я перестала чувствовать к сестре что-то осознанное. Просто закрылась, чтобы не переживать снова боль за близкого человека. Между прочим, после злосчастного похода у меня и отношений не было, очень боялась привязываться. Но тревога росла, и я на этой почве снова стала проникаться Алисой. В пятницу младшая сестренка рассказывала, как её друг-наркоман украл её вейп, в субботу, как целовалась с двумя старшеклассниками, в воскресенье – как выпила больше всех на тусовке.
Начался апрель. Я понимала: впереди лето, у неё будет куча свободного времени, а родители всё чаще станут уезжать на дачу. Что Алиса будет вытворять, я не знала, и именно эта неизвестность меня пугала. Чтобы изменить что-то, я решила начать с себя. Как в ситуации в самолёте, сначала кислородную маску надевает взрослый, заботясь о себе, а потом – ребенку. Пошла к психологу, но Кристина Александровна, видимо, была из «лагеря» моих родителей. Её вопрос был прямой: «А разве ты сама не пила втихаря от родителей?». «Да, но…» — начала я, но она оборвала: «Ты не мать ей. Это не твоя зона ответственности…». В общем, долго и нудно объясняла мне про момент сепарации от родителей.
Проблема с сестрой так и не была решена, но психолог оказалась вовсе не бесполезной, я смогла снова построить отношения. Простите, что делюсь радостью, но моей парой вновь стал тот самый, с которым я когда-то гуляла в розовой панаме сестры. Игорь настаивал, чтобы я переехала к нему, потому я жила на два дома, и это всех утомляло. Но мне казалось: если я уеду сейчас, в начале июня, сестра точно пустится «во все тяжкие».
Так и случилось. Алеся была поймана родителями с бутылками пива в рюкзаке недалеко от дома (куда-то очень спешила, так, что звон бутылок не заметила). Она утверждала, что «несла другу/подруге/не знала, что там, рюкзак подменили», но запах и поведение выдавали пьяного подростка, Алеся явно шла продолжать «банкет». Когда семья вошла в квартиру, я была на кухне и сразу почувствовала — что-то не так. Отец начал верещать так, что даже мама растерялась. Я не вмешивалась, не пыталась защитить, не искала оправданий. Это был её бой. Не мой.
После того случая наступила тишина, Алеся словно ушла в подполье: с родителями стала говорить меньше, со мной вовсе перестала делиться. Обиделась, что я не заступилась за неё перед отцом. В июле я окончательно съехала. Занималась рутиной и просто наслаждалась тем, что нашла своего человека. Каждый день в моём новом мире была тишь да гладь. До ключевого события. В одиннадцать вечера мне позвонила Алиса, попросила спуститься. Она стояла около подъезда с ссадиной под глазом и расцарапанным лицом. Я молча села с ней на скамейку. Тишину первой нарушила сестра:
— Я чувствую, будто лечу вниз, и никто не ловит.
Мы толком так и не поговорили в тот вечер, но она чего-то испугалась и перестала уходить из дома допоздна. Сказала, что бросила курить — странно слышать такое от 15-летней, но я обрадовалась. Остаток лета я посвятила важной задаче «словить» свою сестру.
Мы ходили в кино, мы буквально бежали на гастрономические мастер-классы. Алеся стала ходить со мной на фитнес и загорелась этим. Мы вместе рисовали, пока однажды она не призналась, что ей это не нравится. Мы даже трижды ночевали в палатках тем летом. Почти каждые выходные ездили купаться. Пишу это, слёзы подступают. Сколько боли мной было пережито за предыдущие месяцы, а потом только «мы, мы, мы».
Сейчас ей 18. Она занимается бодибилдингом и выступает в категории «фитнес-бикини», не пьёт, следит за питанием, ведёт блог, в котором помогает молодым девочкам выстроить здоровые отношения с едой.
Однажды я спросила её:
— Что тогда изменилось? Почему ты пришла ко мне тем вечером?
И она как-то особенно мудро ответила:
— Я знала, что если кто и не отвернётся, то это только ты. Даже если молчишь. Даже если злишься на меня. Ты всегда где-то рядом стояла. А мне это было нужно. Всегда.
Я заплакала, Алеся по-доброму засмеялась. Мы были вместе. Наконец-то не в роли спасительницы и утопающей, а как две взрослые, любящие друг друга сестры. Это была её борьба — и она справилась.
А я просто оказалась рядом, когда нужно было подсказать дорогу.

Анастасия Антонова, «Молчание Гильгамеша»
Психбольницы в России — от готики до страха божьего — остаются сложной и как будто вечной для обсуждения темой.
Читать, смотреть и пробегать мимо одновременно морально мутно и тоскливо — и притягательно. Писать о них тоже. Я давно исследую разные аспекты охраны психического здоровья как журналист. Было бы мне интересно исследовать эти проблемы без статуса пациента — не знаю. Но работаем с тем, что есть. Я попала в психиатрическую больницу имени Алексеева в конце первого курса журфака МГУ. Наше общежитие находится от нее в трёх трамвайных остановках. Ковидный год и несколько дней карантина до «развоза» по отделениям.
От санитарки — искренне: «Долбанные журналисты! Дурдом какой-то!».
Оказалось, что тогда в один день в приёмное отделение нас попало трое: девочка с четвёртого курса моего же факультета (после двух академов, попытки суицида и с растворившейся мечтой о дипломе), незнакомая дама из Союза журналистов России (хотелось познакомиться, но она только улыбалась и молчала — невесело) и я. Было много вопросов, «что там с нами делают», но мне всегда нравились журфак и профессия, и со мной ничего откровенно плохого, как правило, не делали.
Я попала в Отделение первого психотического эпизода — первые три раза человек попадает туда. Что его отличает? Самое очевидное — юность. Контингент там очень молодой: многие ментальные расстройства начинают проявляться в 18-19 лет, а когда они проявляются, в больницу не попасть сложно. Это отделение относительно новое, и считается, что специалисты там наиболее вовлечённые, как раз потому, что работают с молодыми ребятами, «у которых шансы вернуться к нормальной жизни наиболее высоки».
Ещё отличает «модный» набор заболеваний: биполярное и пограничное расстройства, депрессия, шизофрения. В интернете и в жизни нередко говорят о романтизации ментальных расстройств — но это чепуха, расстройства ЖКТ романтизировать интереснее.
На палату из восьми человек четверо — студенты МГУ и по совместительству понаприехавшие в нерезиновую Москву жители здания в трёх трамвайный остановках. Лежала девочка-политолог с затяжной депрессией — очень щедрая и добрая — поделилась со мной новыми трусами. В больницу ты попадаешь в лучшем случае с одними, но в будущем их могут передать родственники. Лежала девочка-философ, с ней было очень радостно обсуждать книжки. Лежала девочка-магистр с факультета почвоведения с огненно-рыжими кудрявыми волосами. До своего мелтдауна она успела поработать в проекте ООН по решению проблем с опустыниванием земель. Она всех очень выручала — нас перманентно заставляли социализироваться. Врачи следили за этим по многочисленным камерам, а медсёстры что-то молча записывали в блокнотики. Активная коммуникация якобы означала, что мы идём на поправку. И мы вставали в кучку, как дураки, и делали вид, что общаемся. Была только одна тема, в обсуждение которой все искренне включались. Это запоры. Высокие дозировки препаратов почти в ста процентах вызывают такую побочку, и эти переживания занимали внушительную часть нашего эфирного времени. С рыжей девочкой мы выглядели дураками чуть меньше — она рассказывала всякие интересные факты про червяков, почву и камни, и нам было даже весело. Подталкивали к социализации и девочку с шизофренией. Мы не знали о ней ничего, ни имени, ни истории. Она почти всегда молчала и могла по полдня смотреть в стену, пока врачи не пересаживали её, развернув в другую сторону. Но были редкие случаи, когда она искренне говорила: «Я — бог Гильгамеш».
Представьте, что вы никогда не знали, кто он, существует ли он, и по возможности не осуждайте за незнание.
Представьте, что вас толпа студентов самых разных направлений, но никто точно не может сказать, часть ли он мифологии или выдумка одной молчащей девочки (европоцентричность в образовании на глазах стала реальной проблемой).
Представьте, что у вас нет телефонов и компьютеров, и вы не можете загуглить его имя.
Представьте, что вам месяц не даёт покоя этот вопрос, а ваш первый поисковый запрос после выписки из психбольницы — это «бог Гильгамеш».
У девочки-Гильгамеша насильственно появилась подружка. Это была мефедронщица Соня, попавшая в больницу после сильной передозировки, неистово выкрикивающая слово «мефедрон» первые несколько дней жизни в палате, а после прихода в себя — ставшая самой общительной легендой (не побоюсь этого слова). Она общалась с «Гильгамешем» практически без остановки, рассказывала поток историй с тусовок, не ожидая никакой обратной реакции, и пропускала мимо ушей редкую фразу «я — бог Гильгамеш». Так прошла не одна неделя, но потом «Гильгамеш» неожиданно для всех очень отчетливо произнесла: «Как же достал твой мефедрон». Соня на неё обиделась и больше никогда с ней не дружила.
После выписки из круглосуточного стационара мы ходили в стационар дневной, где нам подбирали препараты для длительной терапии. В среднем это занимает от двух до шести недель, всё зависит от организма и побочек. В этот период мы посещали «образовательную программу» — психиатры и психологи читали небольшие лекции про важность приёма препаратов, про жизнь после больницы и коммуникацию с близкими. Небольшие потому, что в первые несколько месяцев после начала приёма таблеток зачастую снижается концентрация, да и вообще побочки дают о себе знать. Мы бесконечно вытирали слюни, ёрзали на стульях, кряхтели, чесались, ковырялись в ногтях и не смогли связать трёх слов в конце занятий. А далее — медицинская карточка передается в амбулаторный кабинет, куда надо в обязательном порядке приходить раз в месяц, показывать, что ты жив, и продлевать рецепты.
Я описала это так подробно из-за ностальгии по привилегиям. У меня случались периоды ухудшения состояния, и я могла приехать к лечащему врачу и обратиться за помощью. По необходимости мы меняли дозировки, следили за реакцией организма, и мне всегда становилось спокойно после вердикта группы взрослых серьёзных людей в белых халатах и разноцветных кроксах: «Мы тебя соберём, не волнуйся».
Летом 2022 года Департамент здравоохранения Москвы ограничил доступ к бесплатной «специализированной медицинской помощи по профилю «психиатрия» в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы» для «иногородних граждан». Об этом я узнала из письма, которое мне прислали в ответ на просьбу продлить лечение. Я не могу назвать эту ситуацию разделением на «до» и «после», но для меня и части моих знакомых она во многом стала поворотной.
Как бы просто это ни звучало, молодёжь — очень разная. Кто-то достигает огромных высот и работает в крупных проектах в свои двадцать, кто-то употребляет с раннего возраста, кто-то может только молчать и говорить несколько фраз, кто-то читает горы книжек, но в моменте болезненно ощущает, что не знает о жизни ровным счётом ничего, кто-то не один раз пытается из нее уйти, не осознавая, как нужна и важна, кто-то вечно куда-то бежит и стремится, а кто-то пока ничего не хочет. Но после получения паспорта, аттестата и диплома это все еще очень уязвимая часть общества, которая так же легко может получить справку из психбольницы. А студенты, учащиеся и старающиеся себя реализовать в другом городе, из-за личного опыта кажутся мне ещё более уязвимой категорией. Ситуация, при которой четыре «иногородних гражданина» из одного здания, пусть и очень большого, познакомились только в больничной палате — кажется мне очень символичной.
И речь не только про лучший ВУЗ России — клятва Гиппократа пережила много редакторских правок, но там не появился пункт про лечение исключительно «лучших». Студентов МГУ часто называют элитой, и звучит так же статусно, как и забавно из-за глубоких расхождений с реальностью. Элитарность даётся тяжело, а кому-то без нужной и вовремя оказанной поддержки не даётся вовсе.
Конечно, это вопрос привилегий. В больнице нам тоже никто не хотел рассказывать, как живут в соседних отделениях бабушки и дедушки, «у которых шансов вернуться к нормальной жизни практически нет». Но надежду на изменения и лучшее будущее тут вселяет работа журналистов, открыто об этом пишущих.
Мой очерк скорее даже не о молодых, а для молодых. Ограниченный доступ к необходимой медицинской помощи — это огромная проблема, на которую нельзя закрывать глаза. И об этой проблеме журналистам абсолютно точно нельзя молчать.

Некоча Окотэтто, «Я – ненка, и это моя суперсила!»
Быть особенной и выделяться из толпы я не стремилась никогда, но с самого детства получала больше внимания, чем хотелось. Тогда мало знали про буллинг, школьных психологов не было. Жалобы воспринимались как проявление слабости. Поэтому мой путь к себе был непростым, но, пройдя его, я смело могу сказать: да, я другая и горжусь этим.
С трех лет я живу в Салехарде, здесь окончила школу и получила первое профессиональное образование. Взросление пришлось на нулевые – непростое время для всей страны. В городских школах тогда было мало детей из числа коренных малочисленных народов. Издевались из-за низкого роста и разреза глаз. Из-за того, что не модно одевалась: семья жила очень скромно. Порой не хотелось видеть свое отражение в зеркале.
Сцена и преображение
Подростком я начала посещать ненецкую фольклорную группу «Вы’сей». Когда надевала национальный костюм, меня называли красивой девочкой-неночкой. Было очень странно впервые слышать одобрение со стороны.
Однажды на наше выступление пришла одноклассница, которую явно удивил мой образ, поэтому в школе она попыталась дразнить еще оскорбительнее. Но я не бросила группу: мне нравились ощущения легкости и счастья, которые дарит сцена. Я не боялась быть собой, проявлять эмоции. Со временем набралась уверенности, обидчики перестали задевать меня.
Неко, ответь
После колледжа я начала работать в сфере образования. Первый же день прошел в расспросах: про мою национальность, про кочевой быт. Спрашивали обо всем, начиная от банальных тем, где хранить продукты в чуме или не холодно ли спать на полу, до самых личных. Некоторые потом легли в основу моего проекта «Неко, ответь…», где я в формате коротких видео разоблачаю мифы и делюсь интересными фактами про ненцев.
Лучший пример
Уверенным пользователем своего происхождения я стала в 26 лет, когда попала в молодежное отделение ассоциации «Ямал-потомкам!». На тематических мероприятиях и форумах собиралось много представителей других малых народов и выделялись те, кто интересен сам по себе как человек и личность. Для остального окружения я придумала такое правило: если меня воспринимают исключительно как представительницу определенного народа, то я стану лучшим примером.
Переживания по поводу внешности, свойственные юности, – слишком большой/маленький нос, не тот цвет/ разрез глаз и т. д. и т. п. – легко проходят, если научиться смотреть на себя с другой стороны. Мои густые брови, которые прежде казались недостатком, стали напоминанием о папе. Раздражавшие тонкостью губы дороги как память о брате, мы были похожи. Глядя в зеркало, теперь вижу всю свою семью.
Я перестала стесняться себя. Мой народ, моя культура, мои традиции – это источник гордости. И если кто-то вдруг пытается уколоть меня своими замечаниями, становится смешно: я давно не та девочка, которая плакала за школой. Я – Неко, моя национальность – ненка, и это моя суперсила.

Карина Безносова, «Эффект свидетеля: почему люди хватаются за телефоны, а не помогают»
Психолог Дугенцова подтвердила виктимблейминг в адрес школьницы из Надыма
Представьте себе автобус, полный пассажиров. Девочка-подросток становится жертвой агрессивного мужчины прямо на глазах у окружающих. Он целует ее колени, потом бьет по лицу. Вместо того чтобы вступиться за девушку, окружающие молчат, наблюдают. Потом в соцсетях ее начинают буквально травить: сама виновата, надо было уйти. Это виктимблейминг – обвинение жертвы. Так произошло в Надыме больше недели назад. И споры идут до сих пор.
Разбор ситуации с психологом
Детский психолог Дарья Дугенцова разобрала для «Север-Пресса» обвинения в адрес девочки, объяснила, почему так произошло и что можно сделать, чтобы подобные случаи не повторялись.
Почему взрослые промолчали
Взрослые пассажиры часто оказываются в ловушке эффекта свидетеля (diffusion of responsibility), считает эксперт. Каждый думает: «Пусть другие вмешаются, ведь нас много». Страх конфронтации тоже играет большую роль: людям кажется, что любое вмешательство может привести к неприятностям.
Но дело в том, что взрослый несет особую ответственность за безопасность ребенка. Дети не способны самостоятельно справиться с таким стрессовым событием.
Почему осуждение обрушивается именно на жертву
Люди зачастую пытаются переложить вину на саму жертву, считая ее частично виноватой («сама виновата, могла встать и уйти, она хихикала» — все это писали в адрес девочки). Причина проста: многим комфортнее думать, что подобное невозможно с ними лично. Обвиняя жертву, мы защищаем собственное восприятие мира как справедливого места, где плохие вещи происходят исключительно с теми, кто их заслужил.
Эта позиция неправильна и потенциально опасна, подчеркнула Дугенцова, потому что усиливает чувства вины и стыда у пострадавших, мешая им получить необходимую поддержку.
Часто это приводит к трагическим последствиям. Из-за страха общественного порицания дети, особенно когда сталкиваются с буллингом или насилием, молчат. Они боятся, что после и так сильных эмоциональных потрясений получат не поддержку, а еще большие проблемы.
Почему девочка осталась сидеть рядом с мужчиной
Ребенок может впасть в шоковую реакцию, ступор и просто замереть на месте, не понимая, что делать дальше, предупреждает психолог. Другие возможные объяснения — отсутствие четких инструкций о поведении в такой ситуации либо неуверенность в собственных силах противостоять агрессии.
У многих защитная реакция организма — это смех. Так устроена психика, и человек не может никак повлиять на внешние проявления. Именно за это школьницу винили больше всего комментаторы в соцсетях. «Да ей же нравится», — писали в основном взрослые женщины. Нет, ей не нравится. Она просто не знает, как реагировать, чтобы не попасть в еще большие проблемы.
Именно поэтому крайне важно заранее обсуждать с детьми темы безопасности и учить их распознавать опасные сигналы поведения чужаков.
Почему подростки сняли видео, а не звали на помощь
Многие подростки воспринимают такие события как забавное шоу, которое можно заснять и разместить в Сети ради лайков. Их пугают серьезные последствия, они боятся выглядеть глупо или неправильно поступившими. По мнению Дугенцовой, часто дети чувствуют беспомощность и недооценивают опасность ситуации.
Некоторые ошибочно полагают, что съемка видео — это способ защиты. Но нет — снятые кадры могут пригодиться уже после происшествия для разбора ситуации. Но в моменте лучше не снимать, а просить помощи. Зачастую если агрессор видит камеру, направленную в его сторону, он начинает злиться и нервничать еще больше.
Родители и школы должны формировать осознанность и уверенность в ребенке. Давать конкретные инструкции, что делать в кризисных моментах.
Как избежать похожего сценария
Совет детям
Научите вашего ребенка громко и твердо заявлять о своем несогласии, говорить четко: «Нет!» Привлекать внимание взрослых словами вроде: «Помогите».
Совет очевидцам
Помните, что ваша поддержка важна и обязательна. Немедленно обращайтесь в соответствующие органы.
Совет учреждениям образования и семьям
Регулярно говорите с детьми о важности защиты личных границ, учите правилам безопасности и правильной реакции на угрозы.
Реальная история виктимблейминга в Салехарде
Элеонора Вашкевич, жительница Салехарда, поделилась своей историей о том, как крепкая эмоциональная связь помогла ее дочери справиться с буллингом в школе. Благодаря доверительным отношениям в семье девочка открыто рассказала маме обо всем, что переживала.
«Мы много времени проводим вместе: разговариваем, обсуждаем день, читаем, делаем что-то руками. Это время для общения, а не просто «вопросов по списку»: ты поела, сделала уроки? Я часто говорю другим родителям: нельзя терять связь с ребенком, заменяя внимание только контролем. Я не готовила дочь к тому, что мир может быть небезопасным. Я стараюсь растить ее в любви, а не в тревоге. Но именно эта любовь и внимание, уверенность, что дома ее всегда выслушают и поймут, я считаю, дают моим детям силу говорить, не молчать», — рассказала Элеонора.
Что бывает, если молчать, и как спасает крик
По мнению Вашкевич, важно понимать, как общаться с ребенком, чтобы тот вырос уверенным и открытым миру. Постоянные разговоры о рисках и угрозах формируют тревожность и страх. Поэтому Элеонора нашла идеальный способ воспитания — совместный просмотр фильмов, мультфильмов и обсуждений новостей. Каждый раз, когда на экране возникает неприятная или опасная сцена, обсуждение превращается в конструктивный диалог: «Что бы ты сделал и как этого избежать?»
Главное послание матери своим детям звучит ясно: молчание опасно. Не нужно поддаваться на фразы: «Никому не говори, а то станет хуже». Не станет!
«Мама всегда услышит, поймет и от этого точно хуже не станет», — уверена Элеонора.
Ситуацию с буллингом в школе мама сначала хотела решить мирным путем. Она общалась с родителями обидчиков, но, увы, это ни к чему не привело. Тогда женщина написала заявление в полицию, дочь отправила к психологу на реабилитацию.
Ситуацию, которая произошла с подростком в Надыме, Элеонора считает ужасной.
Если бы я оказалась в этом автобусе, я бы не молчала. Я бы встала между мужчиной и девочкой. Я бы подняла голос. Я бы вызвала полицию. Потому что мы все взрослые, и если мы не защищаем детей, то кто мы тогда вообще? Молчание — это соучастие. Смотреть в окно, отворачиваться, думать «не мое дело» — это предательство по отношению к ребенку, которого в этот момент унижают, пугают, ломают», — считает общественница.
Но больше всего в этой истории Элеонору потрясло то, что произошло дальше. Осуждение и унижение подростка в соцсетях. «В чем-то это даже страшнее, чем сам инцидент», — отметила Вашкевич.
«Со своими детьми я уже говорила об этом. И скажу еще раз! Если ты видишь несправедливость — не молчи. Даже если страшно. Даже если никто больше не встает. И если с тобой происходит что-то страшное — знай, что ты никогда не виновата. Ты не обязана «уходить», «не привлекать», «не раздражать». Ты обязана только одно — сохранить себя. А задача взрослых — быть рядом и защищать», — резюмировала Элеонора.
Журналист пытался связаться с подростком из Надыма, который попал в такую ситуацию. Но ребенок предпочел молчание, на которое имеет право.

Елена Мещерякова, «Энергия оптимизма»
Энергия оптимизма
Алексей Афанасов 30 лет назад потерял руку, но сохранил любовь к жизни и вкус к победам.
Никому ничего не доказывать, а просто жить в кайф. Таков личный девиз липчанина Алексея Афанасова. Несмотря на полученную в детстве травму, мужчина состоялся и в профессии, и в спорте. Без ограничений ставит себе цели и всегда добивается желаемого. Вот буквально этой осенью Алексей привёз победу, заработанную на всероссийской регате.
Попутный ветер
Не зря говорят, что удача любит смелых оптимистов. В сентябре этого года липчанин вошёл в призовую тройку на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту в Московской области.
— Поучаствовать в регате предложил ортопедический центр, который изготовил для меня протез, — вспоминает Лёша. — Они и команду с одноимённым названием собрали. Согласился сразу — это по-настоящему крутое приключение! Гонки, да ещё на яхте, ощущение скорости, соревновательный адреналин, притом что под парусом я не ходил ни разу.
Отдать концы!
С первой тренировки и до заключительного старта всё было организовано очень динамично. Соперниками «Сколиолоджик» были 26 команд, куда входили профессионалы и любители парусного спорта.
— Был один день в Москве перед соревнованиями, когда для нас провели специальные обучающие занятия, — делится Алексей. — Рассказали, какие шкоты (снасти) за что отвечают, распределили зоны ответственности. Курсы молодого матроса мы проходили под командованием опытного капитана мастера спорта международного класса по парусному спорту Юлии Скачковой.
Все на борт
По правилам, в команде новичков должен быть один профессионал. Юля сама захотела выступать именно с «новенькими». И помогла изучить отдельные тонкости управления яхтой. Например, выполнять команды «потрави», «заложи», «отдай». Или научиться определять, откуда дует ветер.
Не порвать парус
Ещё один участник особенной команды — Александр Муратов из Карелии. Алексей и Саша уже пересекались в прошлом году на соревнованиях по кибатлетике. Александр потерял ногу несколько лет назад из-за производственной травмы на железной дороге. Сейчас он обладатель современного протеза голени с микропроцессорным управлением, который восполняет движения человеческой ноги.
На соревнованиях Александр отвечал за генакер (большой треугольный парус на гоночных яхтах, который обычно применяют для ускорения судна при попутном ветре), его управление, постановку и снятие. Со стакселем (треугольным парусом) ему помогала мастер спорта по плаванию Полина Антипина. У девушки протез голени и предплечья.
Страх — за борт
— Я же отвечал за гик, — уточняет Алексей. — Это один из важных элементов «парусного гардероба». Жёсткая конструкция, проходящая вдоль корпуса лодки. Когда было нужно, как заправский матрос, помогал Александру сворачивать генакер. Он всё время норовил упасть за борт, а доставать его из воды — достаточно сложная задача.
Признаюсь, когда ехал на регату, основной задачей было не утонуть (улыбается). Но в процессе гонки уверенность в себе крепла, а страх я просто «выкинул» за борт, «на корм акулам». Моя профессиональная деятельность зачастую связана с индивидуальной работой. Участие в регате помогло научиться решать командные задачи, за что хочу сказать спасибо экипажу.
Адреналин победы
Четырнадцатое место из двадцати шести команд в общем зачёте. И третье место — среди новичков. По словам Алексея, это достойный результат, учитывая, что в составе экипажа профессионально ходить под парусами умела только капитан.
— Мне больше всего запомнилось ощущение триумфа даже не на пьедестале, — делится Лёша. — Удивительное чувство, когда ты уже причалил и видишь сзади другие лодки, которые только идут к финишу. Особенно если с ними была плотная борьба, но ты вырвал, пусть на полкорпуса, победу, на несколько секунд опередил соперников. Хотя, конечно, мы не ставили заоблачных целей, просто наслаждались гонкой.
Лёгкость бытия
А более удивительно, как на одно и то же трагическое событие по-разному могут реагировать люди. Алексей Афанасов выбрал жить в кайф, несмотря на серьёзную проблему. Хотя он серьёзной её решил не считать…
За окном лето 1992 года. Двое восьмилетних мальчишек в поисках приключений бродят по улицам Липецка. Их внимание привлекает трансформаторная будка с приоткрытой дверью. Любопытный Лёша Афанасов залезает в необычный «домик» и получает мощный удар электрическим током…
Пока его везли в больницу, парень несколько раз терял сознание. Вердикт врачей был неутешителен: из-за сильнейшего электроожога требовалась ампутация руки. Тут впору впасть в глубокую депрессию, но Алексей (может, в силу возраста) сразу принял ситуацию такой, какая есть.
— Я и слова-то такого не знал: депрессия, — усмехается Лёша. — Помню, проснулся, начал себя ощупывать и понял, что руки нет. Ну, нет и нет. Недаром говорят, что детская психика гибкая. За неделю я привык к новому телу, походке. Часть веса сместилась, центр тяжести тоже: пришлось искать его заново. После больницы продолжил жить обычной жизнью: гулять с пацанами, бегать по гаражам. Через год научился ездить на велосипеде, вскоре сел на мопед.
Горе от ума?
По словам Алексея, и после травмы он остался прежним жизнерадостным непоседой, любящим необычные эксперименты.
— Мог, например, поджечь бензин в деревянном сарае и тушить его водой, — вспоминает свои детские «подвиги» Алексей. — Или срубить на скорость вишню в саду у бабушки. Все родственники, кроме родителей, панически боялись оставаться со мной наедине из-за того, что я опять попаду в очередную передрягу. А у меня просто ум пытливый (улыбается).
Рациональный подход
После школы любознательность привела Алексея сначала в строительный техникум, затем в муниципальный институт права и экономики. Юриспруденцию он выбрал во многом из-за киношных образов адвокатов — остроумных, харизматичных, способных помочь людям в любой ситуации. Был к профессии и чисто практический интерес: знать свои права на работе, при оплате покупок в магазине, проезде в транспорте. А со временем, как выяснилось, и для получения бионического протеза.
Жизнь после травмы
В 2006 году после окончания юрфака Алексей Афанасов пришёл работать в Липецкую областную общественную организацию «Ковчег». Спустя полгода стал исполнительным директором, позднее — президентом организации. Но в один момент понял, что как специалисту ему больше некуда двигаться выбранной сфере. И переключился на инвестирование. Начинал с акций и ценных бумаг, затем освоил фьючерсы (договоры о покупке актива в будущем) и рынок криптовалют. Параллельно не забывал про спорт, которым занимается более 15 лет.
Палестра=Победа
— Нужно было направить энергию в мирное русло, — рассказывает Алексей. — Вначале попробовал тренажёрный зал, но быстро заскучал от однообразия: тягать железо и ставить рекорды на беговой дорожке не мой вариант. Увидел, что рядом с домом открылась секция бокса, и пришёл туда, к тренеру Тимуру Пачиеву. Объяснил свою ситуацию, договорился о тренировках. Первые два года они были индивидуальными, мне не хватало спарринг-партнёрства. И я параллельно стал посещать секцию смешанных единоборств. Пробовал заниматься тайским боксом, но всё-таки вернулся к борьбе. Теперь три дня в неделю тренируюсь в клубе «Палестра».
Стираем границы
Он живёт, работает, боксирует, не делая акцент на своей особенности. Два года назад Алексей Афанасов получил первый протез с микропроцессорным управлением. Раньше обходился косметическим вариантом, но в какой-то момент подумал, почему бы не упростить себе жизнь? Как минимум — в бытовом плане. К примеру, если прежде почистить овощи для Лёши было проблемой, сейчас он может это делать без ограничений. Или в магазине взять протезированной рукой пакет, чтобы сложить продукты.
Один на сто
— Мой случай однозначно сложный для протезистов, — признаётся Алексей. — Слишком высокий уровень ампутации (вычленение плечевого сустава). Не каждое предприятие возьмётся за работу такого уровня. Я обзвонил несколько специализированных компаний — помочь согласились только в ортопедическом центре «Сколиолоджик». И пригласили на консультацию.
Есть импульс!
Специалисты сделали липчанину электромиографию: измерили электрические импульсы при сокращении грудных мышц. Результаты процедуры помогли выбрать нужный протез: бионический с внешним источником энергии. В конструкции сразу три подвижных узла: плечо, локоть и кисть. Протез выполняет определённые жесты или хваты за счёт сигналов, возникающих при сокращении мышц, которые считывают миодатчики — датчики мышечной активности. Чтобы получить необходимую модель, потребовался год.
По прямой к финишу
— После обследования я прошёл медкомиссию, — рассказывает Алексей. — Затем мои документы отправили на медико-социальную экспертизу, где разрабатывают индивидуальные программы реабилитации (ИПР) и указывают технические характеристики необходимого протеза. На финишной прямой программу и акт осмотра передают в фонд социального страхования — для выделения финансирования на изготовление средства реабилитации.
Получение нового протеза в столь короткие сроки Алексей считает большой удачей. Много общался с коллегами по несчастью из других регионов и узнал, что им порой приходилось ждать несколько лет.
— Рад, что живу в Липецкой области, где клиентоориентированность в социальной сфере на высоком уровне, — отмечает мой собеседник.

Евгений Толмачёв, «Дорога в дом скорби»
В …ской области есть большой пруд, молчаливо лежащий в отдалении от населённых пунктов. Пруд, окружённый пшеничными полями и перелесками. Окрестные земли принадлежат знакомому моих родителей – владельцу крепкого фермерского хозяйства. Благодаря его неусыпной бдительности сюда не дотянулись сети и электроудочки браконьеров. Жарким августовским днём, мы с братом Мишей, который старше меня на пять лет, вооружившись спиннингами, сели на велосипеды и отправились насладиться природой и половить больших щук, затаившихся в студёной глубине ям у плотин, под поваленными вербами, у высокого камыша. Как ни старался Николай Петрович развести карпа и толстолобика, щуки поедали малька. Поэтому разрешал нам хлестать гладь пруда блёснами и воблерами.
Миновав деревеньку, мы крутили педали по трассе около получаса, свернули вправо на грунтовку, бегущую вниз по скату пологого холма. На полях ершилась золотая стерня. В рюкзаке моём о чём-то весело разговаривали в коробочке блёсны, булькала вода в бутылке. В тополиной посадке оставили велосипеды. Разошлись по разным берегам, чтобы на закате встретиться возле опалённого молнией старого вяза, стоящего, словно изгнанник, поодаль от тополей. Задумали вечером развести костерок и поговорить о том, о чём беседуют люди, проведшие в городе почти год и, наконец, попавшие в царство щедрой земли, чистого воздуха, с пьянящим ароматом полевых трав.
В восходящих потоках парил коршун, пахло горьковатой полынью. В сильной траве, у корней которой робко взглядывали на меня листочки земляники, трещали кузнечики. Горячий ветер дул с юго-запада. Оводьё в бессильной злобе кружило вокруг шляпы, щедро орошённой репеллентами. Волны перемешивали пену у берега. О чём-то шептал камыш, и я, предчувствуя удачную рыбалку, забросил блесну, которая словно бы коснулась тройниками раскалённого солнца и плюхнулась метрах в сорока от берега. Рыбалка выдалась на славу, но я оставил только самую крупную рыбу – две или три щуки. Вдалеке у воды видел двух волков, скрывшихся в балке, поросшей молодыми вербами.
…Поднявшись к опалённому вязу, я сел на тёплую землю и засмотрелся на заходящее солнце. Облака, похожие на сахарную вату из детства, уплывали вдаль. В них отражался розовый отсвет заката. Мишу не было видно на противоположном берегу. Наверное, он уже возвращался, продираясь сквозь непролазные заросли. Приятная слабость разлилась во всём теле, думалось легко и просторно. Казалось, я чувствовал биение могучего сердца земли, ощущая себя частью леса, стоящего поодаль, частью нагретой солнцем плодородной земли, всего мира. Складывалось впечатление, что я и брат мой, и коршун с волками едины в бесконечном движении, имя которому жизнь. Наверное, я был счастлив в этой затерянности среди полей.
Вскоре показался Миша, облепленный репейником. Даже на бейсболке висел колючий шарик с розовым цветком. Брат шагал устало, но уголки губ трогала наивная улыбка. В капроновой сумке тяжело ворочалась пятнистая с оранжевыми плавниками щука. Сфотографировали улов и отдали Николаю Петровичу, приехавшему проверить – всё ли в порядке.
– Родителям бы взяли, если сами не едите, – отказывался фермер. – Вон щуки-то какие!
– Родителям мы и завтра поймаем. Берите, а то пропадёт за ночь.
– И то правда. Ну, отдыхайте, ребята, отдыхайте.
Николай Петрович сел в серебристый внедорожник и уехал, пыля по грунтовке. Мы принялись разводить костёр, чтобы поджарить пахнущую чесноком колбасу и заварить чаю. Ночь, волчицей пришедшая с востока, набросила покрывало на небо. Вскоре в вышине мерцали несметные звёзды, как бывает только в августе. Свет от костра дрожал на красивом, византийского письма братовом лице. В юности, признаться, я испытывал чувство, похожее на ревность, и хотел быть лучше Миши. Но теперь гордился тем, что у меня такой красивый брат. Миша работал в университете преподавателем, а я – журналистом областной газеты. Я знал, что многие студентки были влюблены в брата и за глаза величали его любовно Дорианом Греем, хотя он ни на грамм не был высокомерным, заносчивым, распущенным.
Почему-то стали говорить о счастье. Что счастье – дело глубоко личное, мол, если хочешь быть счастливым, значит, будь. Рассуждали, спорили о преградах, обстоятельствах, мешающих человеку стать счастливым. Я был твёрдо убеждён, что каждый в ответе за свою судьбу. Миша деликатно не соглашался и вдруг сказал:
– Давно хотел рассказать тебе историю, свидетелем которой стал несколько лет назад. Думаю, ты поймёшь, что жизнь намного сложнее писанных утверждений…
И вот что брат поведал.
– Как-то осенью познакомился с девушкой. Уже на втором свидании она с жаром стала убеждать меня, что хочет семью, и чтобы у её ребёнка был отец. Я изумился такому повороту событий, никак не ожидая от девушки, создававшей впечатление кроткого существа, силы и напора. Близки мы не были…
Каждый день в социальной сети Оля писала, что я для неё любимый и единственный. На третьем свидании целовались в парке среди облетавших деревьев, где пахло опавшей листвой. Не умея целоваться, Оля в кровь искусала мне губы, а потом, обняв за шею, вперила в меня взгляд печальных больших глаз и, будто отягощённая тяжкой мыслью, молчала. По правде сказать, было в её внешности нечто грубое, без огранки, но вместе с тем, это вызывало жалость. Высокий мужской лоб, густые брови, тонкая верхняя губа и выдающаяся вперёд нижняя говорили, возможно, об упрямом характере, маленький носик терялся на широкоскулом лице, неразвитую грудь мои ладони не чувствовали под лёгкой курткой. Оля не красилась, не носила украшений. Уши её не знали серёжек, не надевала брюк, а лишь кофты и длинные юбки.
– Что ты на меня так смотришь? – смутился я.
– Любуюсь, – тихо ответила Оля, словно заворожённая заглядывая в глаза. – Почему мы не можем быть вместе? Почему? Почему?
– Оля, мы с тобой знакомы две недели…
– Миша, ты мне больше чем нравишься, я влюбилась в тебя, давай поженимся! Я не могу без тебя! Почему мы не можем быть вместе?
– Оля, мне кажется, что ты торопишь события.
Она изменилась в лице, опустила руки и отвела взгляд. Провожал её домой. Недалеко от подъезда обшарпанной хрущевки молча простились. Я обернулся. Оля, отдаляясь, шла деревянной походкой растерянного человека, руки висели, как плети. Не оборачиваясь, она вошла в подъезд. Почему-то стало неловко. На следующий день поговорили по телефону, в общем, помирились.
Через неделю пригласила познакомиться с родителями. Поднимаясь по лестнице на третий этаж панельного дома, она вдруг засмеялась. В подъезде стоял тяжёлый дух. Сеяла жидкий свет лампочка, покрытая слоем пыли. Железная входная дверь Олиной квартиры была распахнута настежь. В проходе стояла её бабка, мать – обе в кофтах и длинных юбках – и отец, который лет двадцать с ними не жил. Как по команде ударили в ладоши. Пуще остальных старалась бабка – скуластая, большая, но с маленькими деспотическими руками. Разуваясь, обратил внимание на количество задвижек и шпингалетов входной двери. Стены в квартире были сплошь увешаны то ли иконами, то ли не пойми чем, на письмо которых я не обратил внимания. Но больше всего запомнилась маленькая, как бы стеснённая мрачными образами в грубых окладах картина с изображёнными тюльпанами.
– Жениться принуждали? – спросил я, посмеиваясь. – Под образами? Заперли на все замки и заставили жениться?
– Не перебивай. За столом говорили о всякой ерунде: о работе, о болезнях. Тогда пандемия на пике была. Я чувствовал напряжение, подспудно понимал, что разговор хотят повернуть на другое. И вдруг Олин отец спросил – когда свадьба? Очевидно, что вопрос этот подбили задать мать и бабка, всё время переглядывавшиеся.
– Как заговорщики. И что ты ответил? – спросил я.
– Сказал, что знакомы всего ничего. Будущий тесть вскоре поспешил домой, отбыв повинность, сказал, что дети болеют. Оля, когда говорила мать или бабка, глядела на них с собачьей преданностью в глазах, словно ища одобрения. И всё – «да, мамочка?», «да, бабушка?», «верно же, бабушка?».
– А сколько ей лет было?
– Двадцать пять.
– Пора бы своё мнение иметь. Но я тебе, Миш, так скажу – какой-то там нехороший сюрприз таился. Ну, рассказывай дальше.
– Так вот, Женёк. В общем, меня одобрили. И стал я у них бывать раза по два в неделю. Только закроемся в комнате, бабка уже стучит крепким кулачком: «Оля, что вы там затихли? Оля, что за тишина?» Дальше поцелуев дело не заходило. Как ты думаешь, что стояло на столе в её комнате?
– Не знаю, может, портрет Криштиану?
– Если бы… Со стола на наши объятия глядела большая мрачная картина в серой раме. И Оля страшилась перед ней целоваться, нужно было протискиваться между столом и шкафом… Эта гнетущая атмосфера, тайны и странности незнакомой семьи меня тяготили, и я напрямую спросил – почему она не может прийти ко мне?
– И что ж ей мешало?
– Придумывать начала, дескать, в каком статусе я к тебе приду? Дальше – больше… Пошли прогуляться. На улице холодно, накрапывал дождь, и она, выйдя из подъезда, позвонила бабке, чтобы та ей шапку бросила из окна. В пакете. И вновь – «бабушка, а можно я пакетик в урну выброшу?»
– Кошмар! Миш, а её мать и бабка спрашивали про нашу семью?
– Никогда, словно я без рода и племени! После каждого выходного, когда я уезжал к своим, начинались истерики: я тебя люблю, жить без тебя не могу, почему мы не можем быть вместе? Мне, мол, сказали, что если есть любовь, то нужно быстро идти в ЗАГС! Чем жила эта семья?… Теперь, когда я приходил, бабка постоянно хворала, и почему-то лежала и охала не в своей комнате, а в комнате Оли…
– Это, братец, чтобы тебя не впускать.
– И случайно, когда странный, опутанный тайнами и паутиной лжи роман наш расстроился, узнал, что мать и бабка её, как бы так выразиться, состояли в какой-то секте… И Олю туда втянули. Город не такой уж большой, так или иначе найдутся общие знакомые. За малейшую провинность её, взрослую девушку, считай, невесту, таскали за волосы, ставили на колени на гречку.
– На гречку?!
– Но это я вперёд забежал. Оля рассказывала, как в детстве ей запрещали играть с другими детьми, а она подкладывала под одеяло куклу и сбегала, а после её наказывали… В общем, девушка выросла забитым, опутанным всевозможными запретами существом без собственного мнения и взглядов на жизнь. Я настаивал – переходи ко мне, но она придумывала отговорки, а когда стало невозможно находиться в её квартире, когда достали эти нудные, язвительные расспросы о женитьбе подозрительной мамаши и желчной бабки, это бесконечное нытьё, Оля втайне взяла ключи от ещё одной квартиры, записанной на бабку. Квартира оказалась самым экзотическим местом, где мне приходилось встречаться с девушкой. Мрачные образа и, представляешь, удушающая атмосфера: целуемся, а у самого по спине мурашки, – того и гляди из-за плеча рогатая козлиная морда высунется. Складывалось впечатление, что квартира-то не пустует… Спустя несколько дней мы и расстались. Оля, это забитое, жалкое существо, проболталась о нашем приключении, и её заставили разорвать отношения. Наверное, из-за того, что я узнал одну из сокровенных тайн этой семьи.
– Да. И её поставили на гречку. Она о разрыве при встрече сказала?
– Какой там! Написала смс. Звонил раз тридцать – трубку не брала, писал, чтобы не торопилась с решением, но ответила, мол, папа настоял расстаться.
– Ага, папа, который двадцать лет с ними не живёт, вершит судьбу любимой доченьки. Конечно, можно валить на этого папу, как на мёртвого. Сам-то, наверное, еле ноги унёс от этих… Но я думаю, что не любила она тебя. Ты просто был для неё глотком свежего воздуха.
У меня, конечно, возникли свои подозрения насчёт того, почему родня и Оля всё со свадьбой поспешали, отчего эта загадочная история тянулась ровно два месяца, и резко оборвалась, когда вышел срок… Но не стал бередить душевные раны брата. Неподалёку хрипло завыл волк. Мы насторожились. Я подбросил сухих веток в костёр, радостно затрещавший с новой силой, и сказал брату, задумчиво глядевшему на усыпанное самоцветами летнее небо:
– Волков днём видел.
– Ты знаешь, я Оле аметист подарил, – с тоской сказал Миша.
– Это из тех камней, что мама из Якутии привезла?
– Да.
– Ах ты воришка! Это ж надо – втихаря залез в мамин шкаф.
Воздух остывал, но костёр дышал на нас жаром, костёр потрескивал, в тёмную высь, петляя, устремлялись красные искры. В круг света влетела бабочка мёртвая голова с жирными от серой пыльцы крыльями. Я достал из Мишиного рюкзака покрывала. Земля отдавала последнее тепло ушедшего дня. В траве звенели сверчки, у плотины тяжело ударила крупная рыба. Лунная дорожка серебряным ремнём перехватила могучую грудь большого пруда, казалось, что из посадки за нами кто-то наблюдает, и ничто не торопится засыпать, что сама ночь слушает эту печальную историю.
– Миш, как сложилась её жизнь?
– Как сложилась… Стаса знаешь же?
– Это твой друг, что психиатром работает?
– Да, в доме скорби на Котельной. В общем, заехал забрать его – на день рождения собрались. Жду неподалёку от решётчатого забора, за которым душевнобольные прогуливаются. И вдруг как-то не по себе стало, как тогда в молельной квартире… Обернулся, а поодаль у можжевелового куста девушка в жёлтом платке. Было похоже, что на меня глядит. Подошёл Стас. Когда сели в машину, я обернулся, а девушки уже нет.
Стрелки механических часов «Восток» спешили к полуночи. Сновидения оставили меня, бродили где-то поблизости с ночными тенями. Я смотрел на небо и вдруг увидел, как, пылая огнём аметистового цвета, полосонула по небосводу умирающая звезда, угаснув навсегда в бесконечной глубине. На противоположном берегу вновь затянул унылую песню волк…

Вера Савинова, «Эхо в бесконечном коридоре: Одиночество выбора в мире подростков»
Мир подростка – это зыбкая почва между детской наивностью и взрослой ответственностью. Это время бурных гормональных штормов, когда вчерашние ценности трещат по швам, а новые еще не успели пустить корни. И в этом хаосе самоопределения, когда каждый шаг отзывается гулким эхом в бесконечном коридоре возможностей, найти себя становится задачей, граничащей с невыполнимой.
Особенно сейчас, когда реальность словно расщепилась на миллионы осколков, отражающихся в экранах смартфонов. Эпоха информационного перегруза обрушивает на неокрепшие умы лавину идей, трендов, мнений, и кажется, что устоять под этим напором, сохранить свою уникальность – непосильная ноша. Сеть, задуманная как инструмент расширения горизонтов, все чаще превращается в ловушку, где легко потеряться в чужих отражениях, забыв о своем собственном лице.
Раньше, в мире четких иерархий и понятных ориентиров, путь был хоть и не простым, но предсказуемым. Родители – авторитет, школа – знания, двор – друзья. Сейчас же авторитеты размыты, знания подвергаются сомнению, а друзья легко заменяются виртуальными подписчиками. И в этом новом мире, где границы между реальностью и иллюзией стираются, подростку приходится самостоятельно выстраивать свою систему координат, опираясь на шаткое основание собственного опыта и интуиции.
Проблема усугубляется еще и тем, что современное общество, несмотря на свою показную толерантность, предъявляет к молодым людям непомерно высокие требования. Культ успеха, транслируемый блогерами и лидерами мнений, создает иллюзию легкости достижения идеала. Красивая картинка, отретушированная жизнь, глянцевый фасад – вот то, что продается лучше всего. И подросток, глядя на эти совершенные образы, начинает сравнивать себя с недостижимым эталоном, чувствуя себя неполноценным и ущербным.
И вот он, тот самый пресловутый «синдром самозванца», когда даже достигнутые успехи кажутся случайностью, а страх разоблачения преследует по пятам. Ведь в мире идеальных людей нет места ошибкам. Общество требует соответствия, общество требует результата, общество не прощает слабости. И в этой атмосфере постоянного давления, когда каждое действие подвергается оценке, сложно позволить себе быть просто собой, со своими несовершенствами, сомнениями и страхами.
Субкультуры, некогда служившие способом самовыражения и поиска единомышленников, сегодня превратились в еще один способ быть «как все». Казалось бы, выбирай любую – от анимешников до скейтеров – и ощущай себя частью чего-то большего. Но даже в этих обособленных сообществах действуют свои законы и правила, свои «можно» и «нельзя». И если ты не вписываешься в рамки, то рискуешь оказаться изгоем, подвергнуться насмешкам и травле.
Именно поэтому многие подростки, стремясь избежать осуждения и непонимания, прячутся за масками, надевают чужие личины, играют на публику. Они становятся актерами в театре собственной жизни, стараясь соответствовать ожиданиям окружающих, заглушая собственные желания и потребности. И в этой бесконечной игре, в погоне за одобрением, они теряют себя, теряют свою индивидуальность, превращаясь в серую массу, лишенную красок и самобытности.
Особенно сложно приходится тем, кто не вписывается в общепринятые нормы. Тем, кто мыслит нестандартно, кто не боится быть не таким, как все. На них обрушивается шквал критики и осуждения, их пытаются переделать, подогнать под общий знаменатель. И в этой борьбе за свою индивидуальность многие ломаются, сдаются, выбирают путь конформизма, отказываясь от своей мечты, от своего призвания.
И самое трагичное, что во всем этом хаосе, в этом бесконечном потоке информации и давления, подростки часто остаются один на один со своими проблемами. Родители, занятые работой и собственными заботами, не всегда находят время и силы, чтобы выслушать, понять, поддержать. Школа, ориентированная на результат, не всегда замечает индивидуальные потребности каждого ученика. Друзья, сами находящиеся в состоянии поиска, не всегда способны оказать необходимую помощь.
И вот он, подросток, затерянный в бесконечном коридоре выбора, окруженный эхом чужих голосов, пытающийся найти свой собственный путь. Он мечется между желанием быть принятым и стремлением сохранить свою индивидуальность, между необходимостью соответствовать и потребностью быть собой. И в этом вечном конфликте, в этой внутренней борьбе, он учится жить, учится любить, учится верить в себя.
Но есть ли выход из этого лабиринта? Есть ли способ помочь подростку найти себя в этом сложном и противоречивом мире? Конечно, есть. И начинается он с простого – с безусловной любви и поддержки. Родители должны помнить, что их дети – это не их собственность, а отдельные личности, имеющие право на свой собственный выбор. Важно не давить, не навязывать, а слушать, понимать, поддерживать.
Школа должна создавать атмосферу, в которой каждый ученик чувствует себя ценным и важным, независимо от его успехов и достижений. Важно не только давать знания, но и развивать критическое мышление, умение анализировать информацию, способность принимать самостоятельные решения.
Общество должно отказаться от культа идеальности и принять право на ошибку. Важно помнить, что неудачи – это не конец света, а ценный опыт, который помогает расти и развиваться. Важно поддерживать тех, кто не боится быть не таким, как все, кто мыслит нестандартно, кто идет своим собственным путем.
И самое главное – подростку нужно научиться любить себя, принимать себя со всеми своими достоинствами и недостатками. Важно понять, что нет необходимости быть идеальным, чтобы быть счастливым. Важно просто быть собой, быть искренним, быть настоящим.
Ведь в конечном итоге, самое важное – это не то, что о тебе думают другие, а то, что ты думаешь о себе сам. И если ты веришь в себя, если ты любишь себя, если ты идешь своим собственным путем, то ты обязательно найдешь себя, найдешь свое место в этом мире, найдешь свое счастье.
Мир подростка – это сложный и противоречивый мир, но это и мир возможностей. Это время, когда можно мечтать, творить, искать, ошибаться, учиться. Это время, когда можно стать тем, кем ты хочешь быть. И если ты не боишься быть собой, если ты веришь в себя, то ты обязательно станешь тем, кем ты должен быть. И эхо в бесконечном коридоре выбора обязательно приведет тебя к твоему собственному, уникальному голосу.

Анна Рафальская, «По ту сторону порога»
Я словно стою перед длинным коридором. По обе стороны — двери, за каждой — история моих ровесников. Может быть, я найду в них отражение себя?
Открываю первую дверь. За ней — юноша. Он родился с серебряной ложкой во рту, как говорят. Родители — бизнесмены. С детства у него было всё самое лучшее: игрушки, гаджеты, репетиторы, путешествия. В 18 лет он уже имел собственную квартиру и дорогой автомобиль. Его мир словно глянцевая обложка. Казалось, он может позволить себе всё. Но почему тогда в его душе пустота, которую он пытался заполнить клубами, алкоголем, а потом веществами, что обещали облегчение? Деньги и возможности вдруг оказались клеткой. Чем больше ему было позволено, тем меньше он понимал, чего действительно хочет. Всё стало доступным, слишком доступным — и от этого безвкусным. Пресыщение превратило желания в рутину, а удовольствия — в усталость. Я задумалась, что важнее: иметь всё или чувствовать всё? Почему, когда мир у ног, человек не находит под ними опоры? Может быть, подлинное богатство не в обладании, а в знании, ради чего живёшь?
Прикрываю дверь. Впереди — другие. За каждой — своя правда. Что за следующей? Больничная палата. Белые стены, кровати, занавески. Окно с решёткой — кусок неба. В углу, сгорбившись, сидит девушка. Её мир сжался до четырёх стен и больничного расписания. Она оказалась здесь после того, как не смогла утром подняться с постели. Привычные шаги — одеться, позавтракать, выйти из дома — стали непосильными. Слова «я больше не хочу» стали звучать слишком часто. Её привезли сюда, чтобы сохранить то, что она сама уже не могла удержать. Врач сказал: «Депрессия». Но дома она услышала: «Ну ты же не псих», «Зачем тебе больница?», «Прекрати, возьми себя в руки». Эти слова обесценивали её боль, выдавая страдание за каприз. Здесь, в палате, она впервые смогла говорить без страха. Она училась произносить «мне плохо» и не слышать в ответ «да брось». Здесь она плакала — и её слёзы не называли истерикой. Здесь она молчала — и никто не требовал нарушить это молчание. Дни шли безликой чередой: таблетки, групповая терапия, обед, прогулка по маленькому дворику. По-прежнему не было стремлений и желаний, и всё же внутри, совсем тихо, шепталось: «Живи». Глядя на нее, понимаешь: сила — не всегда в движении вперёд. Иногда она — в умении устоять.
А эта дверь ведёт в студию. Юноша сидит за пультом среди проводов, микрофонов, колонок. На стенах — плакаты любимых групп, афиши собственных выступлений. Это его мир. Он родился в провинциальном городке, где дороги уходят в поля, а мечты чаще всего тонут в быту. Его родители — простые работяги, с детства твердившие: «Будешь инженером, сынок». «Стабильность нужна», — говорил отец. «Главное, чтобы была работа и кусок хлеба», — вторила мама. А он мечтал о другом. О музыке. О сцене. О песнях, что услышат тысячи. Каждый раз, когда он заводил речь об этом, ему словно обрубали крылья: «Музыканты твои — нищета», «Это не профессия». И он подчинился. Поступил туда, куда сказали. Сидел на лекциях, от которых чахла душа. Писал курсовые, заглушая внутри голос, который шептал: «Это не твой путь». Он делал всё, лишь бы оправдать ожидания родителей. Каждый день был как потерянная частица себя. Но по ночам… он открывал ноутбук. Писал музыку — трек за треком, бит за битом. Записывал голос на старый микрофон, обмотанный скотчем. Учился сводить, чистить звук, строить песни «на коленке». Когда родители засыпали, он сидел в темноте и нажимал «сохранить проект» — как маленькую победу. Друзья говорили: «Круто, но вряд ли выстрелит». Они звали его отдохнуть, отвлечься, а он оставался дома — дописывать трек. Он загружал песню, зная: если хотя бы один услышит — значит, не зря. И однажды услышали. Сначала — сто прослушиваний. Потом — тысяча. Потом его пригласили выступить на маленьком фестивале. Потом — первый заказ на аранжировку. И, наконец, эта студия. Пусть скромная, но своя. Путь к мечте — это сопротивление. Иногда, чтобы стать ближе к себе, нужно уйти от чужих ожиданий.
Заглядываю в следующую. Лицо молодого человека освещено голубым светом монитора. Его жизнь крутится вокруг ставок, чисел, колёс рулетки. Ещё недавно он мечтал о финансовой свободе. Следил за курсами криптовалют, ждал «того самого момента». А потом начались ставки. Сначала маленькие, потом — больше. Финансовый успех других резал, как личное поражение. Он верил, что должен догнать, наверстать. Потом — онлайн-казино. Ставка за ставкой. Микрозаймы, чтобы покрыть долг. Кредит за кредитом. Каждый проигрыш — ещё одно звено в цепочке разочарований. Он уже не играл ради денег. Он играл ради чувства контроля. Хоть где-то. В мыслях проносились воспоминания, как она молча складывала вещи в сумку, взяла с подоконника свой кактус. “Я устала бороться с твоей лудоманией», — сказала, обернувшись. Потом вышла, тихо прикрыв дверь. Друзья тоже начали отворачиваться: «Прости, брат, но не смогу занять…» Но взгляд всё так же устремлён в монитор. Он сидит, окружённый квитанциями, письмами с угрозами от коллекторов, надеясь, что этот раз — последний, что всё ещё можно исправить. Он уже не ищет богатства. Он ищет способ вернуть власть над своей жизнью. Но что важнее: научиться отпускать или продолжать отчаянно гнаться за призрачной прибылью?
А что за этой? В выставочном зале у своих работ стоит девушка. Её путь к иконописи будто был начертан заранее. В детстве она видела девушек в синих бархатных платьях и думала, что это принцессы. Потом поняла: это студентки духовного училища. Когда она поступила туда, иконопись стала для неё не просто живописью, а молитвой в красках. Путём, где каждая линия — акт веры, каждая краска — свет. «Святость не может быть некрасивой», — говорит она зрителям. — «Если молишься и ищешь духовную красоту, икона обязательно будет красивой». На выставке — её работы: «Богоматерь с Младенцем», диптих, посвящённый калужским храмам. В них — и любовь, и терпение, и вера. Каждый штрих как шаг к свету. В такие моменты понимаешь: когда находишь свой путь, жизнь наполняется истинным смыслом.
Решаюсь открыть еще одну дверь. За ней — простой двадцатилетний парень из Подмосковья с планами и мечтами на будущее. Он из обычной семьи — ничего лишнего, но всё по-настоящему. Его воспитывала мама. Она тянула одна его и младшую сестренку. После работы возвращалась уставшая, но с улыбкой. Дома было скромно, не было ни дорогой техники, ни брендовой одежды, ни отдыха за границей. Но было главное — уют и забота. Запах яблочного пирога по воскресеньям, вечерний чай на кухне и вопрос: «Как день прошёл?» Было тепло, которое не купишь ни за какие деньги. Он никогда не просил лишнего. Помнил, как мама откладывала на зимнюю куртку по чуть-чуть несколько месяцев. Он старался быть опорой: единственный мужчина в доме как никак. Когда его мобилизовали, он думал, что всё будет как в кино. Думал, что вернётся домой невредимым. Но в Курске стало ясно: всё иначе. Страх пришёл не сразу. Вначале — тревога. Потом — ужас. Он осознавал: никто из них, молодых, ранее не участвовал в боевых действиях. Каждый день может стать последним. Больше всего его мучил страх не вернуться к прежней жизни, к семье, не обнять маму с сестрой. Сейчас же все его мысли были о том, как их группа продержится ещё один день, как не стать мишенью, как выжить. Он боялся и за себя, и за тех, кто остался дома. Боялся, что, даже если вернётся, это будет уже не он, что потеряет себя. Тогда он впервые увидел смерть. Близко. Он был метрах в ста от места, где это случилось. Взрыв разорвал землю. Парень, с которым он бежал, исчез в облаке пыли и огня. Всё произошло мгновенно. Они были из одного взвода, знакомы мало. Но это не важно. Потому что смерть рядом — всегда личная. Потому что даже короткое «эй, брат» становится связующей нитью. А потом один исчезает без следа. Недавно, после ночного дежурства, он стоял в углу лагеря, глядя на звёзды, на которые не смотрел так давно. Пытался найти в себе силы для надежды, но получалось с трудом. Страшно. Страшно, когда твой путь — стремление выжить, а не жить. Я смотрю на него и осознаю: есть тепло, которое не под силу уничтожить войне. И значит, всё это — не зря, всё будет хорошо.
Мы разные. Но объединяет нас жизнь в одном настоящем. Мы ищем себя. Мы — молодёжь. Разная. Ранимая. Сильная. Сомневающаяся. Мечтающая. И, наверное, так и должно быть. Важно не просто найти себя — важно не потерять. В круговороте информации, чужих мнений и ожиданий, соблазнов остаться верным себе. Это не про идеальность — это про честность с собой. И я смело делаю шаг навстречу своему будущему.

Сергей Понеделко, «Футбольное поле детства»
Когда мама купила дачу, после бывшей хозяйки – пожилой женщины – мы привели её в порядок, стали держать огород. Но дачный участок находится на далёкой, глухой линии, где мало появляются люди и многие дачи стоят заросшие бурьяном. С наших грядок стали исчезать овощи, затем пропали вкопанные в землю металлические стойки под виноград. Мы забросили дачу, лишь изредка наведываясь, чтобы проверить: не всё ли, хранящееся в ветхом кирпичном домике и маленьких сараях, разворовано?
Путь на дачу лежит мимо старого футбольного поля, на котором прошло моё детство. Всякий раз, когда я вижу во что превратилась арена наших футбольных схваток, становится грустно. Поле, будто лицо больного человека, изрыто оспинами – кротовьими бугорками; оно густо поросло травой и дикими цветами. Здесь и веники полыни, источающей резкий запах, и тысячелистник с маленькими белыми лепестками, и молочай, и многие другие цветы, в изобилии растущие на просторах нашего Дикого поля, некогда воспетого Максимилианом Волошиным. Ну а терновый куст, соседствующий с футбольным полем, по прошествии многих лет так разросся, что, кажется, затей маленькие дети здесь игру, они легко затеряются в нём, как в дремучем лесу.
Проходя мимо, незнающий человек не поверит, что шестнадцать-восемнадцать лет назад центр поля был вытоптан до голой земли. Трава росла разве что ближе к воображаемой «бровке» – краю футбольного поля. Если же после затяжных дождей трава начинала наступать на вытоптанную землю, мы вооружались лопатами, тяпками и отвоёвывали у природы пространство для игры. По-другому и быть не могло, ведь это было наше поле.
Наш пятиэтажный дом, одиноко стоящий на краю посёлка, находится в двух сотнях метров от футбольного поля, ближе прочих домов.
Во время летних каникул, мы – ребята с одного двора – могли целыми днями проводить на футбольном поле. Домой бегали лишь пообедать да набрать воды в бутылки. Рубились в футбол азартно, со страстью. Со смехом, весельем. С синяками, сведёнными судорогой мышцами. Всякое видело наше поле.
Смутным, сильно затёршимся воспоминанием встаёт в голове картина зимнего футбола. Да, даже зимой как-то играли! Зелёный резиновый мяч (и где мы его только нашли?!) лениво перескакивает с сугроба на сугроб, а мы, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега, со смехом и шутками, пытаемся играть. Славное было время.
Почему же наше футбольное поле вот уже много лет стоит заросшее травой, одинокое, заброшенное?.. Молодое поколение нашего двора, выросшее нам на смену, перестало сюда ходить, не приняло от нас эстафету. Да и не держались они вместе, а всё как-то по отдельности. После нашей весёлой, шумной и активной компании, по большей части разъехавшейся, во дворе стало намного тише. Я думал, что, возможно, кто-то из молодых ребят поигрывает на поселковом стадионе или в клетке – обнесённой сеткой площадке. Но ведь мы в своё время тоже играли и на стадионе, и в клетке, а всё-таки возвращались к себе – на свою главную арену. А бывало, что ребята из других дворов приходили на наше поле помериться с нами силами. И мы, ФК «Терешкова», как мы себя в шутку прозвали по названию улицы, играли с запредельной отдачей, чтобы не опозориться в «родных стенах».
Но вот уже много лет наше поле заброшено. Вот уже много лет как клетка на соседней улице – Трояне, пустует. Нет, иногда я вижу, как немногочисленная малышня пинает здесь мяч, но от величия былых футбольных баталий, когда сетка звенела от попаданий мяча, а в воздухе раздавались весёлые крики, ничего не осталось. Чаще всё же я, проходя мимо, вижу, как на лавочках, прижатых изнутри к сетке, сидят сомнительные личности, попивая пиво и коктейли из баночек; да повсюду валяется мусор. Клетка, находившаяся во дворах за поселковой баней, давно как уничтожена. Уж не знаю, для чего её убрали, и кому она помешала. Там тоже в наше время разгорались нешуточные футбольные сражения, в которых мы, терешковцы, принимали активное участие.
Да, что-то произошло тогда, когда мы закончили свои учебные заведения, и разъехались из маленького посёлка в поисках лучшей жизни. Словно произошёл некий тектонический сдвиг в ориентирах молодых. Неужели все эти электронные штуки: компьютеры, телефоны с выходом в интернет сыграли свою роль? В наше время и компьютеры, и телефоны мало у кого были. Но зато многие пользовались приставками: «денди», «сега», «сонька». Но даже если мы, собравшись в гостях у какого-нибудь счастливого обладателя компьютера или приставки, играли в виртуальную игру, искусственный мир надоедал. От долгого сидения и таращенья глаз в монитор тело начинало ныть и просилось на волю. Погонять на велосипедах, разбежаться по полю с мячом… Наше детство не ограничивалось прямоугольником футбольного поля. Мы строили шалаши; играли в прятки; лазали по недостроенной пятиэтажке на соседней улице; играли в войну, перекидываясь камнями, на развалинах бывшего лётного училища рядом с нашим домом. В одной развалине было место постоянных сборищ. К торчащему огрызку стены прислонилась плита перекрытия, образовав как бы «домик с односкатной крышей». Кто-то из взрослых сказал: «Не надо там сидеть, завалится ещё. Это же настоящий гроб». Мы посмеялись, так и прозвав место сборищ – «Гроб».
Сейчас компьютерные игры прочно владеют молодыми умами. Многие погружаются в мир виртуальных игр так глубоко, что выплыть на поверхность становится для них той ещё задачей.
***
В тот день, когда я сделал для себя неприятное открытие, я шёл на дачу мимо футбольного поля детства. Шёл о чём-то задумавшись, глядя под ноги. А когда поднял голову и посмотрел…
…Однажды играли в клетке, я стоял в воротах. Соперник долго финтил, и вдруг пробил из-под защитника. Неожиданный удар вышел хлёстким и очень плотным. Мяч ударил мне в грудь, сбив на несколько секунд дыхание, так, что я «потерялся». Хорошо ещё, что гол не забили: кто-то из своих выбил мяч в сторону.
Такой же силы удар я получил и тогда, по пути на дачу. Только не в грудь, а прямо по голове: ворота исчезли. В тех местах, где раньше находились ворота, стояла такая же густая трава, как и повсюду. Я, наверное, в тот момент выглядел очень глупо: вытаращил глаза и переминался с ноги на ногу. До того опешил от увиденного. «Ну ладно тонкие металлические трубки под виноград, но ворота – эта большая и громоздкая конструкция… Просто немыслимо». – Подумал я. Ещё возникла мысль, что, ходи наши дворовые ребята сюда играть, этого бы не произошло.
Всё, теперь уже от старого-доброго футбольного поля совсем ничего не осталось, кроме приятных воспоминаний и немногочисленных фотографий, сделанных мной на плёночный фотоаппарат. Дикое поле, окружающее со всех сторон маленький, прижатый к железной дороге посёлок, поглотило этот небольшой участок человеческой деятельности. Вобрало его в себя за человеческой ненадобностью.
Захотелось сделать снимок, отправить приятелю, с которым играли здесь. Он живёт далеко, и нечасто приезжает на посёлок к родителям. Достал из кармана штанов смартфон. «Интересно, слово «гаджет» не от слова «гад» происходит?» Невесело усмехнулся. Сделал снимок, отправил на мессенджер приятелю. «Ну и гады же эти гаджеты. Вот пошёл на дачу и тебя прихватил. Зачем?» – я посмотрел на заблокированный чёрный экран – он похож на маленькую бездну, в которую можно провалиться на многие-многие часы свободного времени…
Вспомнился столичный метрополитен. Несущаяся по проходу человеческая лавина, в которой лишь зазевайся – сшибут и, кажется, не заметят. Многие люди на ходу смотрят в телефоны: читают, переписываются, смотрят видео. Как-то в новостях я видел запись с камеры видеонаблюдения в метро: мужчина шёл по платформе и, заглядевшись в телефон, свалился на рельсы.
Я ещё постоял немного, поностальгировал, вспоминая жаркие футбольные баталии. Тогда здесь царствовали две страсти: борьба и радость. Радость от игры, от движения, радость от забитых мячей, от побед. Плотные звуки ударов по мячу, звонкие удары попадания мяча по железу ворот, крики, смех долетали отсюда в наш двор. А в центре поля от сбившихся в кучу тел и мелькавших ног, борющихся за мяч, вздымалась пыль.
В наше время поле вело у электронных игрушек с уверенным счётом. Но сейчас оно безнадёжно проигрывает…

Дарья Виноградова, «Жемчуга»
Мой сверстник останавливается у памятника Окуджавы. Стихи Пушкина льются из дедушки в чёрной шапке и синих рейтузах. Мой сверстник слушает, голову чешет — призадумался. Снег капает на макушку. Фонари рассеяны по Арбату, а чуть выше где-то звезда.
Мой сверстник стоял на Лыщиковой горе. Переглянулся с Пресвятой Богородицей. Да как закружила метель седыми хлопьями!
Мимо мчатся тени и вьются тучи, куда-то зовут, спешат. Туда, где плакучие ивы и расколотый лед.
Мой сверстник спит, читает, идёт на учёбу, прямо как в стихотворении у Бориса Рыжего. Мой сверстник встрепенется и оживёт, когда пыльца яблони ударит в нос.
Мой сверстник провожал самолёты взглядом, бежал за белой полосой. Но никуда не улетишь. Где еще 23 февраля к тебе подойдет мама с ребенком, спросит: «Не хотите купить сердце?». Нигде не предложат такое, хоть плюшевое, пусть даже даром.
Мой сверстник откапывал Истину в пыльных сундуках: там красные звездочки, платки «Слава КПСС!», первомайские открытки. Но никак до Неё не доходил — мечтатель.
Мой сверстник лепил воздушный шар из лоскутков простыней бабушки. В ладонях оказывалось море, на волосах от ели иголки. Убегали кораблики к белому пароходу.
Мой сверстник живёт с друзьями на соседних улицах. Может, все повзрослели — выпустились, теперь мало видимся. Все чаще вспоминаю сонную берёзку из кабинета русского языка. И слоеную крону векового дуба. Мы на него забирались, рвали штаны и падали в лужу. Так над нами подшучивали дриады. Мама с бабушкой заштопают. Я сплю с книгой. Кто-то шкрябает дверь и мурчит — встаю. Только школы теперь больше не будет. Ветхая крыша, на стенах трещины — администрации не выгодно выделять деньги на капитальный ремонт. Яблони остались без крова.
Мой школьный друг поселился в институте, наизусть помнит Шекспира — актер. Дома бывает по 5 часов, пары до девяти. Горят глаза, худой, как спичка. Учит Станиславского и Чехова. Столкнулись на переходе, у которого обезумевшая бабушка каждый день травит голубей. «Я проспал. Вот опаздываю на 50 минут» — сказал Егор. Как до школы шли еще не проснувшиеся, так добрели до Театральной. Мы уже год не в школе, а высыпаться не начали.
Моя школьная подруга — шелкопряд, только в листьях не сидит. Шьет одежду и продает на Авито. Встретились у белой сирени, пристанища зябликов. Пока те доставали червячков, мы сели на трамвай и поехали не в ту сторону. Спорили 20 минут, ходили ли актеры античной трагедии на котурнах, длинных сандалиях. Меня убеждали, что их изобрели в Испании, в середине 17 века. Отвечу так на экзамене по античной литературе и отправлюсь на пересдачу. Вечерами Кристина сидит с нитками, колит на манекене сборки, рисует коллекции, вдохновленные «Дюной». Все дизайнеры должны быть в форме. Поэтому утром пятницы бегают по набережной у парка Горького.
И писатели куда-то торопятся. Синицы волнообразно перелетают улицы. Вот и я так же — от дома до Пушкина. Мой сверстник стал чувствовать время — хорошо бегает по эскалаторам. Ведь если опоздаешь, стой и пиши за дверью.
Мой сверстник стал сохранять память. Вдруг стало важно: прабабушка готовила самый вкусный форшмак и наполеон. Ходила с длинными волосами, в кружевах, носила бусы и длинные юбки до 95 лет. Дома висят тотемные маски и завалялся «Витек».
Бабушка создала семейное дерево — на трех страницах схемы, вплоть от Адама и Евы. И я стала говорить с родными, собирать письма, искать в архивах. Прадедушку по отцовской линии расстреляли, прабабушка числится пропавшей, но скорее всего умерла в лагерях. Бабушка воспитывалась в семье дяди и тети. По маме прадедушка попал под военный трибунал в 39-м году, провёл на исправительных работах восемь лет. Братья прадедушки из Одессы, раскулачены. Мой сверстник едет в метро, сжался как агнец. На Таганской кто-то подносит цветы. А мой сверстник глаза закрывает.
Бабушка говорила, жемчуга любят воду. Глаза ее блестят, когда видят милую внучку. Столько нежности и любви! Я все еще в школе, мне советуют поступать на инженера и объясняют формулы. Так бы смотрели фотографии и перебирали украшения. Но наступает ночь, по телефону не отвечают. Дома бабуля сидит в темноте на кухне с сумой — в пакете лечебная мазь, бумага и расческа. «Как вы могли?», «Вы меня бросили…» — слезы катятся. В газете АИФ сделали рекламу таблеток для пожилых с деменцией, с некорректной подписью о стариковской ненужности.
Мой сверстник, по-прежнему, «солнце». А потом накрапывает, накрапывает — стучат капли.
Мой сверстник читает молитву и плачет. Мой сверстник все, как и прежде, откладывает на потом, все пишет.
Мой сверстник бежит в институт. А там его ждёт Герцен. На стене в полный рост Горький, заглядывает в аудиторию. Мой сверстник пересдал античную литературу на третий раз, помолился Николаю Чудотворцу — помогло.
Мой сверстник сидит у лампы среди испачканной бумаги. Книги насиживает кот. Мой сверстник листает Фета, в окне замирает луна. Мой сверстник читал Гомера и считал корабли. Так моего сверстника сдул Феб.
Мой сверстник ждёт когда зазвонят колокола и можно будет выдохнуть. Все в тумане и рыжей осоке. И что-то звенит протяжно, гулко.
А потом будет утро. И сверстник проснется невинной овечкой, отправится к пастухам, что живут в идиллиях. Потом воспитает Дафниса или Хлою.
Мой сверстник обошел почти всю Москву, прямо от Курской до Кремля. Садился на электричку и ехал до Петушков. Но оказывался на Марьиной роще, в сквере. Там Веничка, рельсы, женщина с длинной косой. Там кто-то пьет водку и лежит в забытьи кошелек.
Мор сверстники собираются на Арбате. Там книги по 50 рублей. Гоголь сидит, призадумался, Окуджава засунул руки в карманы и куда-то идет. Над ними растущий месяц. И сердце — даром.
Иван Коновалов, «Московский персонаж: усатый модник»
Вечером в Большом Трехсвятительском переулке вижу мужчину, похожего на призрака одновременно из трех эпох. У него густые, аккуратно подстриженные усы, как будто сошедшие с советского плаката о мужестве и труде. Винтажная куртка, серо-зеленая, в которой мог бы чинить электрику кто-то в 1980-х. На ногах — берцы для похода в горы. На поясе — карабин для ключей от квартиры. Стрижка — маллет. Вся эта строгость, намеренная грубость линий, армейская палитра — и при этом маленькие татуировки по всему телу. Чувственные глаза. Уверенность позы. Противоречие. Или новый эталон.
Я вижу их все чаще — на Маросейке, в переулках у Китай-города, в заведениях с винтажными колонками и бильярдным столом, будто купленным на барахолке. Пространства нарочито аскетичны: бетон, дерево, грубый металл, крафтовое пиво и одна лампа в центре зала. Эстетика кризиса, стилизованного под комфорт. За стойкой — он: молодой человек с лицом, в котором ускользает половина эмоций, зато остается густая тень от усов. Без бороды. Только усы, густые, щетинистые, как будто он каждое утро гладит их вдоль роста. В стакане — нефильтрованное, разлитое себе и друзьям — тоже с усами, будто это ритуал нового братства.
В начале 2010-х в Москве появился хипстер. Сначала в районе Арбата и Курской, потом — везде. Его мы узнавали по бороде, клетчатой рубашке, шапке-бини и татуировке в виде треугольника. Он пил фильтр, слушал фолк и инди-рок и действительно верил, что можно жить медленнее, глубже, индивидуальнее. Но эта волна схлынула, как и беззаботный 2011-й. С тех пор Москва, кажется, пережила все: локдауны, мобилизацию, тревогу, бегство, возвращения и неуверенность в завтрашнем дне. И вдруг возвращаются усы. Только теперь без иронии первых хипстеров. Или с постиронией, которой уже нельзя доверять.
Новый тренд на усатых модников спустя 15 лет — это реакция на тенденции последних лет: на милитаризацию культуры, на кризис образа мужчины, на одиночество и попытку найти точки опоры в понятных, олдскульных символах силы. Но теперь это сила не агрессии, а стиля и рефлексии.
Потому что в обществе, где каждый день может начаться с тревожных новостей, эстетика защиты становится более привлекательной, но не как готовность к бою. Они не идут на фронт, но и не хотят быть «травоядными». Такая мужественность без агрессии. За внешним фасадом усов и армейских курток — довольно ранимая реальность.
Это вновь молодые мужчины 25–30 лет, работающие в креативных индустриях: диджеи, художники, иллюстраторы, бармены, маркетологи и все прочее на стыке современного искусства и ивент-менеджмента. По собственным словам, они не боятся говорить о чувствах, посещают терапию, не стыдятся ухаживать за собой. Их идеал — мужчина, способный расплакаться, но при этом выглядящий как эстет с обложки журнала. Ирония в том, что это кажется нарциссизмом, но по сути является попыткой красиво держаться на плаву.
Если в 1980-х эти атрибуты были маркером субкультуры — ты был металлистом или байкером, ты говорил этим языком, — то сейчас это дресс-код. Язык без содержания, а усы как ярлык: я свой. Мол, я из этой среды, мы понимаем друг друга, мы варим пиво и верим, что можно быть мужественным и чувствительным одновременно.
Такая новая странная московская маскулинность. Внутри это все та же старая попытка нащупать, кто мы — мужчины, борющиеся с подорожанием чека, образования, недвижимости и другими симптомами неспокойного времени. При всей этой одержимости собой и уходе от всего коллективного в их эстетике кроется эхо формы. Армейские куртки, штаны — то ли ворк, то ли милитари. И обувь рабочая.
И, кажется, в каждом из них есть что-то от героя Ремарка, только вместо фронта — ритмика дип-хауса, вместо письма с фронта — сторис с мыслями о теле, трансцендентности и маленьких прелестях жизни. А вместо шинели — винтажная куртка с карманами.
Но парадокс в том, что эта маскулинность — выстроенная. Она как декор. Она не идет изнутри, а импортирована из Pinterest и визуальной эстетики «мальчиков с болью в глазах и ключами от душевной близости на карабине». Будто кто-то собирает в обществе понятный образ по инструкции: тату, усы, укладка, фраза про «обратиться к себе». Это красиво, но нарочито и немного грустно. Как любой антикварный предмет, которым украшают бар, чтобы он казался «настоящим».
Текст опубликован на сайте издания «Москвич Mag»
Дарья Цыганкова, «Без второго шанса. Как в Белгородском районе работает центр «Расправь крылья»
«БелПресса» пообщалась с подопечными центра постинтернатного сопровождения
Центр «Расправь крылья» работает уже более 10 лет. За это время социальные педагоги помогли выпускникам интернатов и социально-реабилитационных центров (СРЦ) решить не одну важную жизненную проблему, улучшить условия жизни, а также оказали психологическую помощь.
Единственный шанс
Центр заработал в посёлке Северном Белгородского района в ноябре 2014 года. Как рассказал «БелПрессе» его директор Андрей Батраков, задача учреждения – проработать все внутренние барьеры у ребёнка и сформировать его жизненный путь после того, как он покинул стены социально-реабилитационного центра или интерната. Чтобы обеспечить подростку максимально комфортные условия социализации, в «Расправь крылья» реализуют два направления поддержки ребят.
Первое – социальная гостиница. Выпускникам интернатов, которые ещё не получили собственное жильё, предоставляют комнату. Она становится для детей полноценным домом. Рассчитана такая гостиница на 12 человек, но сейчас в ней живут только четверо мальчишек и девчонок.
Второе направление – это сопровождение выпускников интернатов после их вхождения во взрослую жизнь. Зачастую дети бывают абсолютно к ней не готовы. Они не знают, как оплачивать счета за квартиру, в какую службу обращаться, если дома что-то сломалось или кому-то срочно нужна помощь, а также могут испытывать сложности в общении.
Когда дети выпускаются из интернатов, специалисты центра оценивают их готовность к самостоятельной жизни с помощью созданной внутрицентровой системы «Выпускник плюс».
Так, они не только фиксируют параметры осведомлённости молодёжи о «взрослых штуках» (квитанциях, номерах аварийных служб), но и выявляют цели подростков в жизни, мотивацию к учёбе, наличие жизненных ориентиров.
После оценки педагоги из «Расправь крылья» собираются на консилиум, в котором участвуют и муниципальные службы постинтернатного сопровождения региона. На собрании делают вывод о том, насколько необходима помощь и поддержка конкретному выпускнику. При положительном вердикте подросток становится подопечным центра, получает социальную и психологическую помощь в необходимых вопросах.
«Неожиданной проблемой на первых порах работы для нас стало то, что дети считают, будто помощь им не нужна. Убедить их в том, что работа с соцпедагогами или нахождение в центре полезно, было фактически невозможно. Многие, выходя из СРЦ и интернатов, считают, что они уже стали взрослыми и получили полную свободу действий. Но всё решает время. Первые несколько дней они живут так, как им хочется. Однако потом понимают, что не знают, куда двигаться дальше, а самое главное – с чего начать сложный жизненный путь. Тогда они приходят к специалистам центра за помощью, и мы с радостью с ними работаем», – делится Андрей Батраков.
Если ребёнок захотел обратиться за поддержкой, в каждом из муниципалитетов региона есть свой соцпедагог. В этом, как говорит Андрей Геннадьевич, целая скрытая система. Выпускники охотнее идут к специалистам, находящимся недалеко от их места жительства: так они испытывают меньше стресса и прилагают минимум усилий, чтобы получить помощь.
В центре есть своя мониторинговая система, следящая за выпускниками интернатов и социально-реабилитационных центров. Благодаря этому удаётся поддерживать связь с детьми и узнавать, в какой жизненной ситуации они находятся в данный момент.
Система включает в себя три уровня сопровождения. Первый – мониторинговый – подразумевает минимальное вмешательство соцпедагогов в жизнь ребят: переписки в мессенджерах, поддержание общения и контроль важных событий в их жизни.
На следующем, поддерживающем уровне встречи выпускников со специалистами центра учащаются, ребятам оказывают поддержку в любых ситуациях. Третий – интенсивный уровень – предполагает постоянную работу со специалистами центра.
«Часто работу с детьми я сравниваю с работой токарем, – признаётся Андрей Батраков. – Если у токаря дёрнется рука при обработке детали, то получится брак. Такая заготовка будет непригодна для использования. Как и токарям, нам нельзя ошибаться. С первого раза нужно заслужить доверие ребёнка и помогать ему стать полноценной частью общества. Отличие нашей работы от работы токаря только в том, что у токаря будет вторая попытка, а у нас – нет. Потеряв доверие однажды, мы уже вряд ли сможем его вернуть».
Учитель для друзей
22-летняя Елена Разумова родилась в селе Плющины Прохоровского района. Девочка росла в неблагополучной семье, в которой воспитывались ещё 7 её братьев и сестёр. Когда Лене исполнилось 9 лет, вместе с братом Сашей и сестрой Ирой её забрали в один из областных детских домов. Она побывала в трёх социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних – в Губкине, Белгороде и Белгородском районе. Как говорит сама Лена, воспоминания из детских домов у неё самые тёплые.
«Мы дружили со всеми ребятами, а педагоги не чаяли в нас души. Нам преподавали гимнастику, танцы, учили вышивать крестиком и бисером. Ещё мы всем составом ездили на творческий фестиваль «Созвездие», – вспоминает Разумова.
Однажды Лену, Иру и Сашу забрали в приёмную семью. Уезжать из детского дома Разумовой не хотелось, но она прекрасно понимала, что её младшим нужны мама и папа. Поэтому, собрав вещи, ребята переехали к новым родителям. Но и здесь дети недолго чувствовали себя как дома. В 2015 году органы опеки изъяли детей из семьи из-за домогательств отчима по отношению к младшей сестре Лены.
В центр «Расправь крылья» Лена попала в 16 лет. За время, проведённое в нём, девушка нашла не только новых друзей и поддержку, но и возможность реализовать себя как хорошего работника. Уже больше полутора лет она работает здесь социальным педагогом. Параллельно учится на 3-м курсе социалогического факультета БелГУ, как раз осваивая профессию социального педагога.
Взяв на себя роль того, в ком она сама когда-то сильно нуждалась, Лена поняла, насколько на самом деле беззащитны дети, попавшие в трудные ситуации. Такая работа заставила её быстро повзрослеть.
Когда Лена была ребёнком, то не тревожилась за своё будущее, ей казалось, что детство продлится вечно, а взрослые будут решать за неё все проблемы.
«Оказалось, что всё не так просто. То, что происходит в жизни у подопечных «Расправь крылья», – одно огромное испытание на прочность, от которого хрупкий ребёнок может запросто сломаться. Это может привести к тому, что он начнёт считать плохое обращение с собой нормой, станет вести себя аморально и озлобится на весь мир. И только педагоги центра могут помочь сохранить его ментальное здоровье, поддержать и научить справляться со страхами и внутренними барьерами. Наша задача – показать ребятам, что они не оторваны от общества, а являются его полноценной прекрасной частью», – говорит Разумова.
Сейчас она наставник и поддержка для своих друзей из центра. Теперь в её обязанность входит помощь воспитанникам в решении разных вопросов, например с оформлением документов для получения собственного жилья, когда им исполнится 18, а также мебели в новый дом.
Несмотря на юный возраст, мечты у Елены Разумовой довольно взрослые – взять ипотеку, чтобы самостоятельно купить квартиру, и накопить на машину.
«А там, может, и замуж выйду», – улыбаясь, заканчивает она рассказ.
Страх доверять
Другая подопечная центра – 18-летняя Анастасия Тарусина – ребёнок-сирота. Её судьба сложилась непросто: Настя потеряла маму, а отца лишили родительских прав. До совершеннолетия Тарусина находилась в разных центрах и интернатах региона, пока однажды не встретила свою приёмную маму, которая воспитывала её до 18 лет.
В центр «Расправь крылья» Настя попала, когда ей исполнилось 18 лет, в декабре 2023 года, оставшись один на один со взрослой жизнью.
О своих первых впечатлениях от этого места сейчас она рассказывает с улыбкой, хотя тогда для неё это стало настоящим испытанием. Будучи замкнутым ребёнком, она трудно находила общий язык с другими ребятами. Страх перед неизведанным всё время сковывал её.
Благодаря работе с социальными педагогами центра Насте удалось первой сделать шаг навстречу другим девочкам, проживающим в социальной гостинице. Именно так она завела своих первых друзей и соседей по комнате.
Психологи центра помогли Насте не просто начать социализироваться в обществе, а проработать первопричину боязни заводить новых друзей. Часто эта причина проявлялась в её ночных кошмарах со странными сюжетами, которые вгоняли её в холодный пот и слёзы.
«Два месяца мне снился один и тот же сон. В нём я убегала от вооружённого человека. Ближайшим местом, в котором можно было от него укрыться, стало разрушенное здание на моём пути. Я забегала в его подъезд, поднималась по лестнице на последний этаж и видела дверь, которая, казалось, вела к выходу из злополучного дома. Открывая её, я видела, что за ней – пустота. Но всё равно делала шаг в пропасть и падала. На этом моменте я просыпалась в слезах», – рассказывает Настя.
Психологи провели с Настей ряд лекций и творческих сеансов. Тарусина показывала на рисунках, как выглядит само здание, где она стояла и как падала. Спустя недели работы специалисты рассказали Насте, что причина странных сновидений – её страх доверять людям. Специалисты шаг за шагом объясняли ей, как отпустить прошлое.
По словам Тарусиной, всю жизнь она была замкнутым ребёнком и боялась проявить инициативу при знакомстве с другими ребятами. Вместо того чтобы гулять или заниматься в творческих и спортивных секциях, Настя предпочитала проводить время за просмотром ленты новостей в телефоне. Она признаётся, что боялась навязать себя или случайно обидеть своей прямолинейностью других ребят, тем самым настроив их против себя.
Сейчас у Анастасии нет проблем в общении со сверстниками. В центре «Расправь крылья» она нашла много хороших друзей, с которыми не расстаётся ни на минуту. Девушка уверена, что это полная заслуга педагогов центра.
«Жить стало гораздо легче. Теперь я не боюсь обидеть кого-то своей прямотой, понимаю, что важно быть собой. При этом, конечно, стараюсь быть очень тактичной. За спиной будто действительно вырастают крылья, которые можно распахнуть и взлететь вверх», – подытоживает она.
Артем Сорокин, «История одной ставки: как проиграть доверие близких и восстановить отношения с ними?»
Представьте, что вам чуть более 20 лет, вы — простой парень, работающий инженером на ракетно-космическом заводе, мифические суммы денег не получаете – обычную среднюю зарплату для столицы. Живете с родителями в трехэтажном доме на периферии подмосковного города, у вас еще нет спутницы жизни, но есть большая любящая семья, верная собака, друзья, с которыми вы играете в футбол каждое воскресенье в 10 часов утра. Кстати, вы – капитан команды. Хорошо, что не все эти люди знают про ваши миллионные долги и вторую личность, не спящую по ночам, другое «я», которое может заставить вашу рыдающую маму колотить вас — взрослого человека – и просить родную бабушку сдать вас в полицию. Вы больны, и вы знаете это. Но как лечиться от вируса, разносящегося в рекламных паузах федеральных ТВ-каналов и спортивных медиа?
Сейчас Андрею – герою первого абзаца — 26 лет, он рассказывает, что заразился той самой инфекцией где-то на первом курсе университета. Эта болезнь – лудомания, одержимость азартными играми, в частности, ставками на спорт, которую не все даже воспринимают всерьез. Да, это не рак, нарождающийся откуда-то изнутри организма, но венерический недуг, распространяемый в общественной среде: на спортивных каналах, в интернет-блогах и просто на уличных баннерах. По оценкам специалистов, этой еще малоизученной учеными патологией сейчас страдают около 15 миллионов молодых людей в России. История Андрея – это записи из импровизированной амбулаторной карты-дневника, подробности которой раскрывает сам же пациент, описывая свое состояние:
Предболезнь: перед поездкой в Крым; лето 2018 года
«Были отложены деньги родителей на билеты, а я их проиграл»
Крымский мост на тот момент еще не был построен, но имелась паромная переправа из Керчи. Родители Андрея оставили ему деньги – 5 тысяч рублей, — чтобы он купил билеты на эту переправу. Он проиграл эту сумму на ставках. «Тогда мне казалось это страшной суммой», — вспоминает он. – «Была внутренняя борьба с самим собой, и я не знал, как признаться в этом». Наступил «день Х», и мама Андрея подошла к нему с вопросом:
— Андрюш, ты купил билеты?
— Мам…ну, денег…нет, — дрожащим голосом ответил сын.
— Как нет? – шокировалась мама.
Логичный, однако, вопрос. Началось распутывание ребуса. «Ты не можешь все сразу сказать, она кусочками из тебя это выпытывает», — говорит Андрей. – «Я извинялся, хотел загладить вину (…) и сам выбрал для себя наказание». Родители Андрея согласились, чтобы он покрасил пол в подвале. Ремонтные работы должны были проводиться в любом случае, но Андрей вызвался сделать это лично, чтобы «искупиться»: справился за часа 3-4. Как он вспоминает, «это был только, как оказалось, первый звоночек».
Латентный стадия: период скрытого развития болезни; 2018-2019 года
«Через время я возвращался в ставки и уходил (…). Это непростая психологическая проблема»
В то время у Ивановых (фамилия семьи героя – прим. ред.) был квартирант, деньги за аренду жилья он по договоренности перечислял на карту Андрея. Часть суммы от этого ежемесячного «вэлфера» у него уходила на ставки. Да, Андрей продолжал тратить деньги в букмекерских конторах. «Не хочу никаким образом обвинять родителей, но если бы они прекратили финансирование, то я бы сразу все понял», — считает Андрей. – «Они подумали, что я раскаялся, извинился, усвоил. Но…все оказалось гораздо сложнее». Рост жизненных аппетитов увеличивал размер ставок парня. «Ты начинаешь выигрывать – забираешь эти деньги, — поясняет он. — Тебе кажется, что ты за день зарабатываешь чью-то зарплату: 50-60-70 тысяч рублей». Сначала он действовал планомерно и умеренно: выигранные деньги выводил на карту, а на балансе букмекерской конторы оставлял тысяч десять, чтобы дальше отправить их в оборот. Андрей уверовал в то, что не подвержен бездумному азарту, и продолжал ставить по «выработанной стратегии, по которой можно двигаться». Движение действительно было, уже по инерции – по накатанной прямиком в долговую яму.
Стадия предвестников: слабость, головная боль и повышение температуры (в семье); 2020 год
«Как оказалось, проигрывать зарплату – не самое страшное»
Родители Андрея купили новую машину, а старое авто, KIA Rio, отдали сыну. «Потрясающее начало для парня в 20 лет, катайся – не хочу, зарабатывай себе на более крутую машину, но…», — Андрей, фыркнув, запнулся и продолжил: «Были свои обстоятельства. Я должен был часть суммы, примерно 300 тысяч рублей, отдать родителям». Мама и отец договорились на честную семейную сделку с сыном: 10-20 тысяч с зарплаты ему нужно было перечислять родителям, чтобы покрыть часть расходов на машину, стоившую тогда около миллиона рублей. «Да, это абсолютно правильно, у меня никаких сомнений в этом не было, что нужно вкладываться в семью», — думает Андрей.
В дни аванса или зарплаты, ему требовалось переводить обусловленную сумму маме на карту. Но уведомлений о зачислении все не было. Мама интересовалась у сына, где обещанные деньги. Тогда его выручали друзья.
— Юра, слушай, нужно прикрыться, — убеждал Андрей. — Это последний раз, и я завязываю со ставками. Пожалуйста, кинь, мне нужно маме перекинуть, потому что иначе меня убьют.
И лучший друг Юра давал денег. Или давал возможность оттягивать страшный диагноз?
Стадия выраженных клинических симптомов: болезнь в разгаре; 2021-2022 года
«Мой долг всегда копился по отношению к маме»
Когда у Андрея из-за ставок заканчивалась вся зарплата (а это были 70-80 тысяч рублей), он прибегал к «верным помощникам» всех должников – кредитам и микрозаймам. «В тот момент у тебя отключается критическое мышление, и ты слепо следуешь азарту, чтобы получить дозу дофамина, поставив ставку и болея за нее», — рассказывает Андрей. – «Только, когда ты все проигрываешь, и родители говорят, что «не такого сына они воспитывали», ты понимаешь, что натворил». Андрей понимал это, но ненадолго. Он вставал по ночам, чтобы посмотреть матч по теннису в США – на него же сделана ставка, и пропустить игру нельзя. Утром, без единого часа сна, парень призраком шел на работу к 6:30. «С трясущимися руками я ждал, зайдет-не зайдет. Смотрел эти матчи, как наркоман, трясся», — вспоминает он. – «Я могу сейчас вернуться в это время, но мне этот человек не приятен». В тот момент его долги перевалили за 2 миллиона рублей.
Мама Андрея сидела с ним на диване в гостиной. Сын старался не подавать виду, что в тот день ему зачислилась зарплата (она уже была проиграна), поэтому он держался в приподнятом состоянии духа и говорил на отвлеченные тему. Но материнского чутья у женщины не отнять:
— А, Андрей, деньги-то еще не приходили тебе? – спрашивает мама и считывает, как сын меняется в лице.
Андрей не придумал ничего лучше, чем по-детски избавиться от участи отвечать на вопрос:
— Мам, мне нужно с Тишей погулять (собака Ивановых – прим. ред.)…
Сын вышел из дома и, пройдясь по поселку с псом, вернулся. Может, ему казалось, что в прогулке с собакой есть что-то гипнотизирующее?
— Андрей, что это вообще было? – недоумевающе спрашивала мама. Конечно, все было ей ясно: проиграл. Чтобы спасти Андрея от монструозных процентов в микрофинансовых организациях все микрокредиты мама закрывала за него, а отец занимался воспитательной частью.
Агония: выход за границы морали ради азарта, лето 2022 года
«Я мог лежать и смотреть в потолок и часа думать, что я натворил»
Традиционно родители Андрея уехали на юг в Крым, но сын, зависимость которого недешево обходится семейному бюджету, по понятным причинам остался в Подмосковье. С его бабушкой они вместе следили за домом и огородом. Как и многие бабушки, баба Варя не совсем ладила с современными технологиями и устройствами, поэтому контроль над своей пенсией она делегировала внуку. Андрей всегда знал, когда и сколько денег зачисляются бабе Варе, и у него был пин-код от ее карты.
Летом проходил теннисный турнир Уимблдон. Андрей называет единственным плюсом ставок то, что благодаря ним он начал разбираться в ранее не знакомом виде спорта, хотя до этого считал себя экспертом лишь в футболе. Он, взяв деньги с бабушкиной пенсионной карты, сделал несколько ставок на матч теннисиста Новака Джоковича. И проиграл.
Тайное стало явным не сразу, а только когда бабе Варе понадобились деньги на какую-то покупку. Андрей признался, что это он снимал деньги с карты, общим числом вышло около 200 тысяч рублей.
«По факту это преступление. Если бабушка придет в участок и напишет заявление о краже, меня привлекут к ответственности», — говорит Андрей. – «Мама была в гневе, когда узнала, что я украл деньги. Она просила бабушку сдать меня в полицию». Баба Варя, в отличие от взбаламученной от эмоций мамы, руководствовалась холодным рациональным рассудком и отказывалась обвинять собственного внука перед правоохранителями. Андрей вспоминает: «Я не знаю, кто в тот момент более трезво смотрел на ситуацию, но я знаю, что ВСЕ мне хотели помочь. Это самое важное».
Ремиссия: как снова стать нормальным человеком; после инцидента с бабушкой, 2022-2023 года
«Она вводила меня в гипноз и через установку в мозгу внушала, что ставки мне не нужны»
Родители отправили Андрея к психологу. Одним из первых зданий для него было написание списка «плюсов и минусов ставок», их нужно было сравнить. «Картина стала очевидна, ведь минусов оказалось гораздо больше», — вспоминает Андрей. – «Я написал на листке: «теряется связь с собой», «идет потеря идентичности», «ухудшается общение с семьей и близкими». В плюсы я записал «возможная прибыль». Неважно, сколько я мог за один вечер выигрывать, 100-200-300 тысяч. Важен только сам факт, сколько у меня было. А у меня не было ничего».
Психолог практиковала гипноз на Андрее. Он ложился на кушетку, расслаблялся, закрывал глаза и считал до шестидесяти. «На тридцати я уже отрубался и просыпался через полчаса, а она все это время надиктовывала какие-то выводы «плюсов и минусов», закладывая их на подкорку», — рассказывает Андрей. После трех занятий с психологом он подумал, что по-настоящему вылечился. Оказалось, что это было ложное ощущение.
Рецидив: сорваться, почувствовав облегчение; конец 2023 года
«Сейчас со стороны на себя смотришь: «ты что урод совсем, что плачешь и просишь что-то у мамы? Она такое пережила…»
Андрей, желая как можно скорее закрыть долги, устроился на вторую работу в такси. Работал после смен на заводе и по ночам, но недолго: за первую неделю попал в два ДТП на 200 тысяч рублей и закончил с извозом. Он вернулся в ставки.
Шел чемпионат Европы. За 10-20 минут до начала матча Испания-Хорватия Андрей пришел к маме и, как ребенок, в слезах безуспешно умолял ее отыграть немного денег, говоря, что будет забито больше двух голов в игре, — значит надо ставить на «тотал больше 2.5». Испания в первом тайме забила три мяча, и у Андрея «сорвало крышу»:
— Мам, ну ты видишь, ну ты видишь!!! Я же говорил, что нужно было поставить!
— Андрей, ты болен, — уверенно сказала мама.
Андрей вспоминает: «Я, как любой больной человек, не хотел это слышать. Я до конца этого не слышал»
Клиническая смерть: как одна драка заставила все переосмыслить, май 2024 года
«Мне казалось, что нужно взять и собрать вещи и уйти. А куда уйти?»
Долги перестали быть для Андрея каким-то определенным числом и перешли в разряд чего-то абстрактного и эфемерного, некий «мешок с деньгами». Де-факто же это была вполне ощутимая сумма, пробившая отметку в несколько миллионов рублей. Андрей, сделав перерыв на полгода, проигрался на ставках в пятый раз. И финальный. Катализатором этого стало уведомление букмекера о доступном фрибете. Это такая бесплатная фишка, равная какой-то сумме, например, 5 тысяч рублей, но для того, чтобы ей воспользоваться, необходимо пополнить баланс конторы уже своими, реальными деньгами. Наживка для изнеможденной рыбы, которую только что выкинули с берега обратно в море.
В пятницу майским вечером в доме Ивановых собрались гости на семейном застолье. Андрей вернулся с работы, это был очередной день зарплаты, в который он должен был перевести маме деньги. Она посмотрела на сына и каким-то образом все поняла без всякого его оправдательного монолога.
— Андрей, ты опять…ставишь? – спросила его мама. Она уже не могла плакать. Не из-за того, что гости увидели бы ее слезы, — не могла плакать от бессилия. Потому, что устала.
У мамы сдали нервы. Она «взорвалась» и напрыгнула на Андрея, начала его колотить. Он покорно убрал руки за спину. «Я понимал, что я этого заслуживаю и хочу маме сделать легче. Я хотел, чтобы она сделала очень страшные вещи: побила меня побила или исцарапала лицо, не хотел никак защищаться», — вспоминает Андрей. – «Я был опустошен».
Мама набросилась на Андрея и повалила его на пол. Сцепившихся матерь и дитя разнимали родственники и друзья. Андрей поднялся на второй этаж дома в свою комнату и собрал вещи в сумку, чтобы покинуть родительский дом.
Реанимация: после пиковой точки; тот же май 2024 года
«Мама в сердцах говорила: «ты пойдешь на СВО, чтобы отдать все долги»
Андрей не решился уйти из дома и опустил сумку на пол. Родителям пришлось наказывать 25-летнего парня, как ребенка. В истерике он не отдавал телефон, и ему заламывали руки. Сопротивляться уже не было сил, – Андрей снова сдал все гаджеты и погрузился в закрытой комнате в состояние самокопания. Но это не было штилем после урагана: конфликты в семье продолжались. Доходило до того, что родители Андрея говорили ему: «Все, ты уходишь жить в квартиру, не нужны нам никакие деньги, и не нужно их возвращать. Но мы тебя больше не знаем». Второе предложение звучало еще более радикальным: сыну нужно было пойти на СВО. Вскоре все начали понемногу успокаиваться.
Андрей, лишенный доступа к ставкам, стал нетипично покладистым: работал в огороде, много гулял с собакой, помогал по дому. Через пару недель, когда семья уже «остыла», он подошел к маме с просьбой:
— Мам, ты у меня забрала телефон, но я все-таки на государственном предприятии работаю. Мне нужно быть в постоянном контакте с начальством в чате в телеграме, держать связь.
Андрею выдали другой телефон, где не было доступа к его банковским аккаунтам. Сим-карта, к которой они были привязаны оставалась в его старом телефоне. Получилось некое неудобное ограничение.
Когда на работе коллеги спросили Андрея, почему он не появляется в сети, ему пришлось выдумать курьезную историю про то, что мошенники настолько сильно заспамили его номер, что он решил сменить сим-карту. Иногда он просил купить ему шоколадный батончик в буфете, так как карте не было денег, а с зарплатной он перевести не мог – приложений банков нет. Безусловно, все это были мелочи перед большим шагом в новую реальность, где нужно было отдавать огромные долги и восстанавливать отношения с родителями.
В первую очередь Андрей вернул украденные деньги бабушке. По его словам, долгов стало, конечно, меньше, но мыслей о своем прошлом не убавилось. «Блин, на эти деньги я мог погулять с друзьями, съездить в отпуск. А ты батрачишь чисто на долги и ждешь, когда можно будет опять зажить жизнь», — говорит Андрей. – «Столько еще неизведанного, что хочется постигнуть (…). У меня впереди не менее красочные годы взамен тех, которые я упустил, мне так кажется».
Заключение о пациенте: как понять, что человек действительно здоров?; 20 мая 2025 года
«На рекламу ставок сейчас даже смотреть противно»
Выйдя из букмекерского омута и увидев свои миллионные долги, Андрей окунулся с головой в водоем с самоанализом: «Куда я себя загнал? На что я трачу свою жизнь? Буквально на какие-то левые эмоции, хотя я могу не левые, не искусственные ощущения получить просто от жизни: от любви, от встреч с друзьями, с девушкой, могу играть в футбол и вообще заниматься любым спортом, смотреть фильмы, играть на гитаре. Я могу бесконечно перечислять то, что приносит эмоции, не совместимые со ставками».
Андрей считает, что он выбрался из бездны сумасшедшего азарта. Говоря на больничном «сленге», выкарабкался, выздоровел. Его мама все же склонна верить, что, оступившись несколько раз, сын может сделать это еще раз. Вероятно, полностью выздоровевшим его можно будет назвать, когда последний рубль снедающего жизнь парня долга будет возвращен.
В мае этого года Андрей отметил дату, которую можно занести красными чернилами в календарь – 12 месяцев без единой ставки на спорт. Возвращать долги, по оценкам Андрея, ему осталось еще 2-3 года, и тогда в его жизни появится еще один памятный праздник – день, когда он снова почувствует себя свободным.
Обложка: freepik.com


