Доктор филологических наук, профессор РГГУ и ВШЭ отвечает на вопросы ЖУРНАЛИСТА.
— Максим Анисимович, что можно сказать о современном состоянии нашего основного средства коммуникации? Действительно ли его необходимо срочно спасать?
— Едва ли стоит говорить о языке такими категориями. Дело в том, что периодически и во властной среде, и в обществе возникают такие явления, как, например, борьба с заимствованиями. Этим увлекался, в частности, Жириновский, он требовал принятия каких-то новых законопроектов. Недавно были приняты новые поправки в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», призванные ограничить использование заимствований в названии кафе, магазинов, жилищных массивов. Это такой, мне кажется, постоянный, цикличный процесс.
— Связан ли он с реальной опасностью для языка?
— Порой да. Иногда заимствований слишком много, и мы от этого начинаем не то чтобы страдать, но испытывать некий дискомфорт. Когда я читаю текст и вижу в нем несколько новых для меня слов (а это обычный текст в интернете, новость или что-то вроде), меня это раздражает. Все же в русском тексте должны быть понятные слова. К каким-то заимствованиям я быстро привыкаю, другие не могу воспринять сразу. Когда идет поток заимствований, как это было в 90-х, его хочется регламентировать. Но вопрос — как. На мой взгляд, борьба с заимствованием как явлением абсолютно бессмысленна. Потому что заимствование вещь вообще скорее полезная, вопрос в их количестве. Сейчас я, честно говоря, не вижу особых предпосылок для усиления регламентации, кроме каких-то политических жестов, такого стремления к изоляционизму, вызванного скорее политическими обстоятельствами, чем характером нашего лингвистического ландшафта.
«Дело в том, что периодически и во властной среде, и в обществе возникают такие явления, как, например, борьба с заимствованиями. Этим увлекался, в частности, Жириновский»
— Как тут не вспомнить Пушкина: «Шишков, прости, не знаю, как перевести…».
— В общем, такие попытки были давно, и люди старались какие-то свои задачи решить при помощи преувеличенной тревоги по поводу языка. Лингвистика становилась полем борьбы. Против заимствований выступали и деятели культуры, и политики. Была сталинская кампания по очистке языка. Был словарь расширения русского языка Солженицына… В XIX веке, естественно, споры отражали противостояние «западников» и «славянофилов». И академик Шишков был активным противником заимствований… Далеко не всегда споры и решения основаны на том, что реально происходит в языке, это скорее некие идеальные конструкции. Кому мешал фрак во времена Пушкина, кому мешает сейчас? Мы привыкли к нему. Я не вижу ни деградации русского языка, ни сдачи нашего пространства кому-то чужому. Мы используем, действительно, заимствованное слово, мы им овладели, мы иногда его приспосабливаем с помощью наших суффиксов и приставок. Пример, который я часто привожу, – «пиар». Пиарить, пропиарить, пиарщик и так далее. То есть иностранный корень обрусевает.
— «Парковка», «парковаться», «парковочный»… На Брайтон-Бич в Нью-Йорке я слышала неологизмы типа «драйваю», «послайсить», «продается студия в билдинге»…
— Да, «вам послайсить или одним писом»? Конечно, это вызывает усмешку. Это чересчур. Но, опять же, нужно это обсуждать. Проблема существует, что-то нужно пытаться переводить. Но бывают явные неудачи. Вспоминаю, как пытались переводить «селфи». Как «себяшка». Или «самочка». Понятно, что это игровые вещи, они не прижились, и «смайлик», скажем, пытались заменить «лыбиком» без всякой перспективы… Но иногда можно что-то придумать. Если будет удачно, пусть это побеждает! Так что проблема использования заимствований существует, ее стоит обсуждать, но далеко не всегда стоит (а может, и вообще никогда не надо) использовать слишком сильные выражения — такие как «деградация», «гибель» и прочее, потому что это неправда.
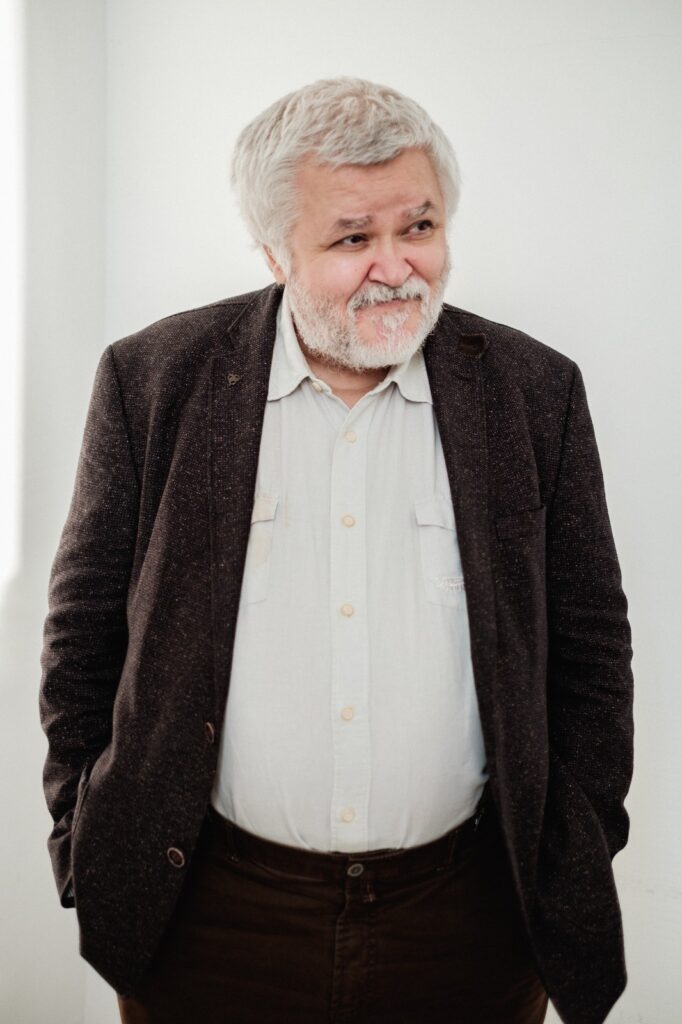
Максим Кронгауз: «Вспоминаю, как пытались переводить «селфи». Как «себяшка». Или «самочка». Понятно, что это игровые вещи, они не прижились, и «смайлик», скажем, пытались заменить «лыбиком» без всякой перспективы…»
— Мы все сегодня находимся под сильным влиянием англицизмов, причины ясны — компьютер, экономические реалии, неизменная унификация терминов. Это происходит, наверное, не только с русским языком?
— Если мы действительно трезво посмотрим на роль английского языка в мире, то увидим, что это, безусловно, язык международный, а можно сказать и сильнее — мировой язык. И, конечно, он является в большой степени каналом влияния глобализма. А глобализм — это тенденция последних десятилетий. Это не язык США, не язык Англии, не язык Австралии, а действительно язык глобального мира. Язык конференций, на котором говорят ученые разных стран. Мне нравится термин Global English. Глобальный английский. Не британский, скажем, стандарт, — это новый вариант английского языка, который доступен очень многим иностранцам, активно служит инструментом взаимодействия. Рождаются новые термины, слова. И мне кажется, что вставать в позицию изоляционизма просто невыгодно. Хотя есть языки, где это практикуется. Самый яркий пример — это исландский язык, на который стараются переводить всё. Подобные тенденции есть и во Франции. И мы часто берём за образец французскую языковую культуру, но всё-таки очень сильно отличаемся от мира франкофонии. Я не думаю, что такие образцы надо копировать. Надо смотреть на то, что происходит у нас, а мы довольно спокойно обращаемся с этими словами. Как я уже сказал, мы их «одомашниваем», то есть превращаем в свои слова, с помощью своих средств. Ну, действительно, какое-нибудь «океюшки» — это американское или это русское слово? Наверное, какой-то гибрид. Здесь нет ничего плохого, это обогащение языка. Но когда поток заимствований слишком велик, он действительно должен как-то регламентироваться. Но вряд ли штрафами, запретами. Скорее, творческим соревнованием.
— То есть запреты не работают? Как запрет мата, который, кажется, только привлек дополнительное внимание к ненормативной лексике…
— Нет, я не согласен. Как раз наш век показывает, что запреты бывают успешны, пример с матерной бранью как раз очень наглядный. Появились штрафы, поправки к Закону об информации. С 2014 года запрещено ругаться в кино, в книгах и прессе, с 2021 — в интернете. По крайней мере, это подействовало на СМИ. После падения барьеров советского времени мат шагнул за привычные для него культурные пределы в 1990-х. А теперь мы уж точно не увидим в газете матерных заголовков — или прямых высказываний на ТВ или в кино. Но мат — особая вещь, и без такой «силовой поддержки» справиться с ним было практически невозможно в тех условиях. Строгий запрет на мат не привел к его исчезновению, но привел к выделению некоторых зон, сфер, где он не встречается.
О политкорректности и феминитивах
— Наш язык, помимо мата, полон агрессивных слов и оборотов. Как быть с ними? В 1990-е в СМИ начали говорить о политкорректности, но это было сложно.
— Мне кажется, должна быть регламентация в публичном пространстве. Штрафовать надо за язык вражды, антисемитские, ксенофобские высказывания в СМИ. Но запретить вообще выражать свои чувства, агрессию нельзя. В конце концов, слова помогают выразить агрессию, не переходя к рукоприкладству. С другой стороны, слова тоже могут побудить к действию, вызвать погромы и так далее. Так что важно регулировать именно публичное пространство. Существует и другой аспект — некоторые медицинские термины, диагнозы, такие как «идиот», «даун» стали бранными. Здесь очень много работы. Дело еще и в том, что политкорректность — в принципе вещь важная — стала в последнее время инструментом политической борьбы, основой для разного рода запретов.
— Вы много писали и говорили о разнице языковых культур. «Негр», «цыган» в русском языке не имеют такой негативной коннотации, как во многих европейских, где эти слова под запретом как расистские. Используют слова «рома», «афроамериканец». У нас популярен цыганский театр, пушкинские «Цыганы» дали начало целому культу…
— Все же негативное отношение к цыганам отразилось в таком слове, как «выцыганить». Появился термин «инфоцыгане». Так что совсем нейтральным слово «цыган» считать нельзя. Другое дело, отношение к нему сдвигается, и стоит думать не о замене слова, а об изменении отношения к этносу в целом. Без такого изменения не поможет и замена слова. Слово «негр» в советское время было вполне нейтральным, но под влиянием того, что оно созвучно негативному, фактически запрещенному в прессе английскому слову, в последние годы многие стараются его не употреблять. Сейчас молодые люди считают это слово негативным.
— Не первый год спорят о феминитивах, как вы к ним относитесь?
— Ну, во-первых, феминитивы существовали в русском языке испокон веков, иногда их было больше, иногда меньше. В советское время в речи их стало меньше, стали чаще использовать слова мужского рода как для мужчин, так и для женщин. Собственно, в феминитивах нет ничего плохого. Усмешку вызывают только некоторые, созданные с некоторыми нарушения правил словообразования, привычек русского языка. Скажем, «авторка» звучит странно, потому что слова с окончанием на «ор» не образуют суффикса «ка». Но это мелочи, в конце концов, к этому можно привыкнуть. Важнее требование непременно использовать феминитивы. Это сложно. По нескольким причинам. Первая, для меня как лингвиста важная — это требование превращает слова мужского рода в обозначение мужчин. Тогда мы теряем общее, видовое, профессиональное обозначение. То есть по этой логике женщина всегда «лингвистка», тогда «лингвист» закрепляется за мужчиной. А как вообще называть профессионала? То есть мы теряем очень важное слово, ведь на самом деле не так важно, женского пола лингвист или мужского, для его или ее трудов это значения не имеет. Там, где гендерные различия важны, русский язык сам создавал такие слова. Например, мужчину всегда называли певцом, а женщину — певицей. Потому что это фактически разные профессии, женские голоса и мужские голоса различаются, с точки зрения эстетики, слишком сильно. Так же, как актер и актриса, у них разные амплуа. А вот для повара не так важно, какого он или она пола. И используется обобщающее слово. Так что если ввести последовательно феминитивы везде, как от нас иногда требуют, мы можем лишиться важной разновидности слов, обобщающей. Второе — обозначать всех женщин феминитивами плохо, потому что часть женщин этого не приемлет. Некоторые женщины не хотят, чтобы их называли журналистками, они хотят быть журналистами. Считается, что Ахматова и Цветаева протестовали против того, чтобы их называли поэтессами. То есть, выполняя пожелания части женщин, мы нарушаем права других женщин.
— А если спросить, как они сами предпочитают называться?
— Это просто нереалистично, невозможно спросить всех. Потому феминитивы едва ли стоит включать в нашу речь так активно, как того хотят радикальные феминистки. Но то, что мы их используем, это факт. Некоторое время назад опубликовали судебное постановление об ЛГБТ, где среди признаков членов сообщества назывался специфический язык, а именно использование «потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня». А как еще называть классную руководительницу? Так что не стоит бросаться в крайности.
Возможны варианты
— Как вы относитесь к практике лингвистов-экспертов? В 1990-х возникла группа ГЛЭДИС, она активно сотрудничала с правозащитниками, а сейчас часто эксперты в восприятии аудитории скорее подручные прокурора, чем независимые исследователи…
— Общество нуждается в лингвистической экспертизе, другое дело, что когда создаются ассоциации или рабочие места при органах власти, это иногда приводит к конфликту интересов. Если я эксперт на государственной службе, то я должен учитывать интересы своего работодателя… Кроме того, сейчас иногда экспертизу производят люди без лингвистического образования и подготовки. В результате мы имеем целый ряд ангажированных и недобросовестных экспертиз.
— Как защитить языковую норму? Кто вообще ее будет устанавливать и охранять?
— Без нормы жить трудно, но последние десятилетия показывают, что надо менять отношение к норме как к жесткой системе. В Советском Союзе вокруг нормы строилось все, была такая «вертикаль власти» русского языка, наверху литературный язык, высшая его форма. Тот, кто не знает литературного языка, тот неуч, а диалекты нужно было искоренять. Сейчас позиция меняется. Точно так же как мы начали понимать ценность языков с небольшим количеством носителей, они отражают особый взгляд на мир, расширяют представление человечества о самом себе. И внутри одного языка, нашего государственного языка в частности, важно изучать не только литературную составляющую, но и диалекты, регионализмы, и сейчас проводится много исследований в этой области. Молодежный сленг тоже вызывает большой интерес. И возникают варианты нормы, при составлении словарей это сейчас учитывают. Скажем, сейчас допускаются два варианта ударения в слове творог — хотя раньше у дикторов телевидения допускался только один — творОг. Вариантов становится больше, это связано в том числе с заимствованиями, скажем, как правильно — мАркетинг или маркЕтинг? Мне кажется, что такие варианты возможны. Понятие вариативности, кстати, оказалось не таким раздражающим, как раньше казалось. Оно помогает решать многие вопросы — а то иной раз получалось, что все вокруг говорят неправильно. Скажем, как правильно, «звонИт» или «звОнит»? Нормой считается только первый вариант, но очень многие делают ударение на первом слоге. Это, наверное, самый яркий пример неизменности нормы и, как следствие, неграмотности большинства носителей языка. Но уже в случае глагола «включить» норма вынуждена потихоньку отступить, и ударение на первом слоге «вклЮчит» постепенно признается допустимым. Конечно, литературный язык имел колоссальное значение, он формировал нацию, он устойчив, он выполнил очень важную функцию. Но пришло время признавать ценность и других вариантов языка.
«Образование журналистов должно строиться на обсуждении неудачных и создании удачных текстов, а не на заучивании правил, которые недоучили в школе. Кроме того — внутри редакции, наверное, должна быть творческая обстановка»
— Наше богатство?
— Конечно. И русских языков должно быть много. В этом тоже его сила.
— Достаточно ли в СМИ говорят о проблемах языка? И что происходит с языком самих СМИ?
— Язык как тема звучит в СМИ довольно активно, и я как эксперт часто комментирую различные сюжеты. Важно обсуждать эти вопросы с молодыми. Важно обсуждать регионализмы, совсем недавно была такая дискуссия. К счастью, СМИ тут выполняют некую просветительскую функцию довольно успешно. Нельзя, чтобы разговор замыкался только на университетах. Это первое. Что касается языка СМИ — это очень большая тема. Начинается она с образования. К сожалению, сейчас в образовании журналистов в плане языка используются в основном традиционные курсы, мало общего имеющие с практикой. Тут важны были бы практические занятия, тренинги, важно обсуждать фрагменты текстов, которые написаны неудачно, искать новые решения. Она из культовых книг о русском языке — это книга Норы Галь «Слово живое и мертвое». Она почти целиком основана на разборе неудачных примеров и их исправлении. Мне кажется, образование журналистов должно строиться на обсуждении неудачных и создании удачных текстов, а не на заучивании правил, которые недоучили в школе. Кроме того — внутри редакции, наверное, должна быть творческая обстановка. Навязать ее очень трудно. Должен быть главный редактор, который следит за стилем, а не пропускает в печать все что угодно.
Интернет как зеркало революции
— Вы автор словаря интернета, много о нем говорите и пишете. Если коротко — это скорее зло для нашего языка, или возможность?
— Ученые не должны мыслить такими категориями, конечно. Интернет — переломный момент в истории человечества. Произошла коммуникативная революция. Мы стали общаться совершенно иначе. Мы стали общаться письменно! И соотношение письменного и устного языка изменилось. Как любое революционное изменение, оно имеет последствия как положительные, так и отрицательные. Положительных, мне кажется, существенно больше. Это спасение для одиноких людей, в интернете вы всегда можете найти собеседника, партнера. Возможность создавать сообщества близких по духу. В то же время интернет затягивает человека, может просто вытащить его из реальной жизни. Сообщества могут создаваться не только во имя благих целей. Тут плюсы и минусы практически неразделимы. Но в смысле нового коммуникативного пространства он уже прочно утвердился. Создалась новая коммуникативная среда. И радикально изменилась скорость распространения информации.
— Но язык в интернете иной. Даже известные писатели признаются, что в сети они менее требовательны к себе.
— Потому что эта форма более спонтанна. Тысячелетия люди глазами оценивали письменную речь, присматривались к ней внимательно. А интернет создает нечто гибридное, формально там речь письменная, а структурно — устная. Мы часто не перепроверяем, что написали в сети, мы общаемся в форме диалога, спонтанно. Потому сравнивать язык в интернете надо не с произведениями высокой литературы с классикой, а, скажем, с тем, как те же классики общались в дружеском кругу, а они разговаривали, как мы знаем — и Пушкин, и Кюхельбекер, и другие, — довольно свободно. Кроме того, в интернете рождаются новые жанры, возникает свой фольклор, «пирожки» и «порошки», многое другое. Мы недавно с коллегой написали книгу о сетевом жанре комической поэзии, о коротких юмористических текстах, которые, конечно, тоже влияют на наш язык.
— Несколько поколений вашей семьи связаны с литературой и журналистикой. Что изменилось в восприятии языка, в отношении журналистов к слову?
— Ну, это очень индивидуально. Профессия журналиста на протяжении века прошлого и века нынешнего переживала очень многие спады и подъемы. Было время, когда журналисты были просто королями, могли поворачивать общественное мнение в любую сторону, а бывали периоды, когда к ним относились очень плохо, возникли такие слова, как «журналюги». В советское время профессия были более-менее стабильна, а вот после перестройки начались «американские горки». Перестройку во многом делали журналисты, в культурно-цивилизационном смысле, и интересно было наблюдать, как престиж профессии то падал, то взлетал, как блогеры подвинули журналистов и так далее. В науке тоже бывало похожее, но профессия журналиста больше связана с историческими событиями. И отношение к языку менялось, поколение, выросшее после перестройки, относится к языку иначе, чем выросшие в советское время. Изменилось отношение к ошибке, ушел страх ошибки, который мы помним. Сегодняшние молодые не боятся ошибиться, это забудется или будет исправлено. Ушли в прошлое советские штампы, сегодня хороший журналист пишет очень свободно и легко.
— А новые штампы? Разве их нет?
— Хорошие журналисты в целом от них освободились. Это отражается и на интервью. Если раньше, скажем, советские спортсмены выглядели в прессе абсолютными роботами, то, как только стало можно писать свободно, мы выяснили, что кто-то из чемпионов не умеет говорить, а кто-то отлично владеет языком. То есть мы пробились сквозь советские штампы к живым людям. Конечно, отношение к мату тоже менялось, мы уже об этом говорили, в 90-е многие позволяли использовать его в текстах, сейчас это ушло. Сейчас появилось снова знакомое нам по советскому времени понятие самоцензура.
— Эзопов язык…
— Эзопова языка еще нет пока такого изощренного, как в советское время, мастерства аллегории и умолчания я не вижу, хотя, наверное оно также начнет проявляться.
— Ваше пожелание нашим коллегам?
— Очень важно читать книги. Современный человек перестроился, в основном получает информацию в интернете, однако журналистам все же важно читать художественную литературу, хотя бы потому, что они узнают много слов, которые там есть, но не попадаются в устном языке, в языке интернета. Нужно больше читать, и это скажется на том, какие материалы журналист будет писать. Вот это, пожалуй, самый главный совет, который я могу дать.
Советуем прочитать:
Максим Кронгауз. «Русский язык на грани нервного срыва». М., 2012, 2017
«Словарь языка интернета» под редакцией М. Кронгауза. М., АСТ, 2016
Максим Кронгауз. «Самоучитель олбанского языка». М., АСТ, 2013
Максим Кронгауз. «Слово за слово. О языке и не только». М., «Дело», 2015
М. Кронгауз, А. Пиперски, А. Сомин. «Сто языков. Вселенная слов и смыслов». М., АСТ, 2018


